Книга: Прощай, детка, прощай
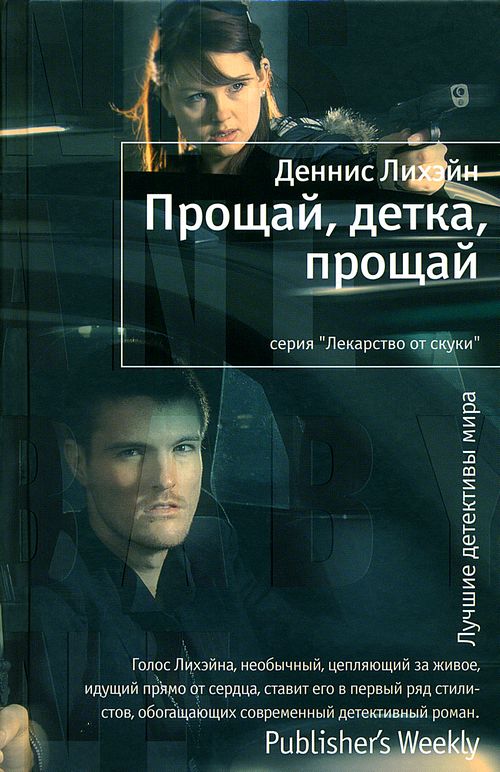
Прощай, детка, прощай
Посвящается моей сестре Морин и братьям Майклу, Томасу и Джерарду. Спасибо вам за поддержку, спасибо, что терпели меня. Я понимаю, это было непросто. Также посвящается Джей Си Пи, которому не на что было надеяться
Всякий, знающий Бостон, Дорчестер, Южный Бостон и Куинси, а также карьеры Куинси и заповедник Блю-Хиллс, заметит, что с их географией и топографией я обращаюсь очень вольно. И это вполне сознательно. Все эти географические объекты существуют на самом деле, но в книге изменены в соответствии с требованиями повествования и по воле моей фантазии, так что должны считаться всецело вымышленными. Более того, сходство героев романа с конкретными людьми, ныне здравствующими или ушедшими из жизни, а также описываемых событий с реальными — совершенно случайно.
Задолго до того, как солнце найдет залив, в темень выходят рыбачьи лодки. В основном — на лов креветок, иногда за марлинами или тарпонами. Ловом креветок занимаются преимущественно мужчины, эту работу они оставляют для себя. Женщин среди них почти нет. Это — побережье Техаса, и оттого, что за два столетия морского промысла столько народу здесь нелегко рассталось с жизнью, потомки погибших в море и их выжившие друзья считают, что честно заработали право на свои предрассудки, ненависть к конкурентам-вьетнамцам, недоверие к любой женщине, берущейся за эту черную работу — возиться в темноте с толстым тросом, усаженным крючками, которые норовят впиться в кисть и разорвать кожу между фалангами пальцев.
Капитан траулера сбавил обороты, и стали слышны лишь тихий рокот двигателя да плеск аспидных волн.
— Были бы, — сказал один рыбак в предрассветной мгле, — все бабы как Рейчел. Вот это — женщина.
— Да, это женщина что надо, — кивнул другой. — Будь я проклят. Да, сэр.
Рейчел в Порт-Меса сравнительно недавно. Приехала она сюда со своим мальчонкой в прошлом июле на видавшем виды пикапе «додже», сняла небольшой дом в северной части городка, забрала вывеску с надписью «Найму помощницу» из окна «Последней стоянки Крокетта», бара, что примостился у пристани на старых сваях, наклонившихся в сторону моря.
Фамилию ее здесь узнали только через несколько месяцев: Смит. В Порт-Меса Смитов так и тянет. Было у нас и несколько Доу. На половине судов, ведущих промысел креветок, все люди, от чего-то бежавшие. Спят они, когда большая часть мира бодрствует, работают, пока она спит, а в остальное время пьют в барах, куда не всякий чужак сунется, выходят в море за добычей, в зависимости от времени года уходят на запад до Баха, на юг — до Ки-Веста и плату получают наличными.
Далтон Вой, владелец «Последней стоянки Крокетта», тоже платил Рейчел Смит наличными. Платил бы и золотыми слитками, если б она захотела, — с ее появлением за стойкой бара прибыль подскочила на двадцать процентов. И, хоть и трудно в это поверить, драться там тоже стали меньше. Обычно рыбак ступает на берег весь — и плоть, и кровь — пропеченный солнцем и от этого делается раздражительным, склонным покончить спор ударом бутылки или кия. А в присутствии красивых женщин — Далтон уж давно это заметил — рыбаки только хуже становятся. Чаще смеются, но становятся и более обидчивыми.
Но было в Рейчел что-то такое, что их успокаивало.
И одновременно предостерегало.
Это что-то, злое и холодное, нет-нет, бывало, да и промелькнет у нее в глазах, когда кто-нибудь переступит границу дозволенного, задержит руку у нее на запястье или отпустит несмешную сальную шутку. И в ее лице — тоже, в морщинах, в увядшей красоте, в следах бурной жизни, прожитой до Порт-Меса, в которой бывали и утра темней, и беды тяжелей, чем у большинства наших.
В сумочке Рейчел носила пистолет. Далтон Вой увидел его случайно, и единственное, что показалось ему при этом странным, так это то, что он нисколько не удивился. Каким-то непонятным образом он это и так знал. Каким-то непонятным образом все остальные тоже знали. После работы никто никогда не подходил к Рейчел на стоянке, не приглашал подвезти. Никто не провожал.
Но из глаз ее уходил холод, лицо покидала отрешенность, а в баре будто становилось светлей. Она двигалась по залу, как танцовщица, и каждый поворот и разворот, каждое движение руки было исполнено грации. Смеясь, она широко открывала рот, глаза сияли, и в баре каждый силился придумать новую шутку, еще лучше той, что сейчас ее рассмешила, просто чтобы услышать ее смех.
И потом — ее мальчонка, очаровательный белокурый парнишка. Нисколько не похож на нее, но, стоило ему улыбнуться, всякому становилось ясно, что это сынок Рейчел. Может, как и у матери, у него слишком часто менялось настроение. И во взгляде иногда угадывалось предостережение, что для такого малыша очень необычно. Едва ходить научился, а уже научился вешать на мордашку табличку «Не беспокоить».
Пока Рейчел работала в баре, за мальчонкой присматривала пожилая миссис Хейли. Как-то она сказала Далтону, что еще не видела такого послушного мальчика и любящего сына.
— Из него, — сказала миссис Хейли, — большой человек должен вырасти. Президент или что-то в этом роде. На войне героем станет. Попомни мои слова, Далтон. Попомни.
Как-то на закате, по обыкновению прогуливаясь у бухты Бойнтон, Далтон увидел их. Рейчел, зайдя на мелководье по пояс и держа мальчика под ручки, окунала в теплую воду. От солнца шелковистая поверхность воды — как золото, Далтону показалось, что Рейчел, купая в нем сына, исполняет какой-то древний ритуал, призванный сделать его неуязвимым для меча и копья.
Оба они смеются, и по янтарному морю за ними солнце разливает багрянец заката. Рейчел целует сына в шею, укладывает его ножки себе на бока, поддерживает его, а он откидывается назад. И оба глядят друг другу в глаза.
Далтон решил, что ничего прекрасней в жизни не видел.
Рейчел не заметила его, Далтон ей даже не помахал. Почувствовал себя лишним, втянул голову в плечи и пошел туда, откуда пришел.
Что-то случается с человеком при виде столь чистой любви. Он начинает считать себя ничтожным, скверным, недостойным. Ему становится стыдно.
Увидев мать и дитя, играющих в янтарной воде, Далтон Вой понял простую истину: за всю жизнь его ни секунды никто так не любил.
Никто никогда не любил? Черт! Эта любовь казалась такой чистой, чуть ли не преступной.
Бабье лето 1997 года
Каждый день в полицию США поступает в среднем две тысячи триста заявлений о пропаже детей. Чаще всего их похищают друг у друга разведенные супруги, более чем в половине случаев место нахождения ребенка легко устанавливается, и домой такие дети возвращаются в течение недели.
Другая часть из этих двух тысяч трехсот убегает из дому. Опять-таки большинство из них в розыске находится недолго, таких обычно сразу или почти сразу находят — чаще всего дома у кого-нибудь из их друзей.
Еще одна категория пропавших детей — нелюбимые и ненужные, их выгоняют или они убегают из дома сами, но родители не пытаются вернуть беглецов. Такие часто укрываются под навесами на конечных остановках автобусов, торчат на углах в кварталах красных фонарей и в конце концов попадают в тюрьмы.
Из ежегодно пропадающих восьмисот тысяч с лишним детей лишь тридцать пять — сорок тысяч Министерство юстиции относит к категории «похищенных не родственниками», то есть к случаям, когда полиция быстро исключает похищение членами семьи, побег и изгнание из дома, а также случаи, когда ребенок потерялся или получил телесные повреждения.
Каждый год безвозвратно пропадает по триста таких детей.
Ни родители, ни друзья, ни правоохранительные органы, ни детские приюты, ни центры, куда стекается информация о пропавших людях, — никто не знает, где они находятся. Возможно, в могилах; в подвалах или в логовах педофилов; на дне моря, вероятно, в дырах, существующих в материи вселенной, откуда о них уже больше не услышат.
Где бы ни были эти триста в год, они — без вести пропавшие. Минуту-другую мысль о таком ребенке тревожит тех, кто ознакомился с разыскным делом, но тяжелее всего приходится его родным.
Нет тела — нет доказательства ухода из жизни, для близких пропавший не умирает, но заставляет чувствовать пустоту.
И остается пропавшим.
— Жизнь сестры складывалась очень непросто, — рассказывал Лайонел Маккриди, расхаживая по нашему офису. Это был крупный мужчина с немного обвисшими щеками, что придавало ему сходство с гончей. Линия широких плеч круто поворачивала вниз, будто на них что-то давило. Застенчивой улыбкой он тоже напоминал косматую собаку, крепкое пожатие мозолистой руки впечатляло. Он был в коричневой камуфляжной куртке и в огромных ручищах мял бейсбольную кепку такой же расцветки. — Наша мама была… в общем, откровенно говоря, пьяница. Отец ушел, когда мы были совсем маленькие. В такой обстановке… по-моему… в общем, растешь озлобленным на весь мир. Чтобы разобраться, что к чему, понять, как жить дальше, нужно время. Дело не только в Хелен. У меня после двадцати тоже выдался сложный период, я был далеко не ангел.
— Лайонел, — одернула его жена.
Он выставил руку в ее сторону, как бы показывая, что должен высказать это сейчас, иначе не сможет вообще.
— Мне повезло, я встретил Беатрис, образумился. Я ведь что хочу сказать, со временем, если хотя бы иногда попадаешь в нормальную среду — вырастаешь из этого, стряхиваешь с себя всю эту дрянь. Моя сестра еще растет, вот что я хочу сказать. Может быть. Ведь жизнь у нее была нелегкая и…
— Лайонел, перестань извиняться за Хелен. — Беатрис провела ладонью по коротко стриженным клубничного цвета волосам. — Сядь, дорогой. Пожалуйста.
— Я просто пытаюсь объяснить, что Хелен жилось несладко.
— Тебе тоже, — возразила Беатрис, — но ты же хороший отец.
— Сколько у вас детей? — спросила Энджи.
Беатрис улыбнулась:
— Один, Мэтт, пять лет. Поживет с моим братом и его женой, пока не найдем Аманду.
При упоминании о сыне Лайонел оживился.
— Отличный парень, — сказал он и сам чуть смутился от такого явного проявления родительской гордости.
— А Аманда? — спросил я.
— Чудесный ребенок, — сказала Беатрис. — Но она слишком маленькая, вряд ли могла уйти сама.
Аманда Маккриди исчезла три дня назад. С тех пор, казалось, весь Бостон сосредоточился исключительно на ее поисках. Полиция задействовала в них большие силы, чем четыре года назад при охоте на Джона Сэлви после стрельбы в клинике абортов. Мэр пообещал придать поискам Аманды приоритет перед другими городскими делами. СМИ только и говорили что об исчезновении ребенка: этой теме посвящали передовицы обе утренние газеты, она же шла главным материалом в вечерних новостях всех трех основных телеканалов, и каждый час, перемежая мыльные оперы и беседы в студии, выходили специальные новостные выпуски.
И за три дня — никакого результата. Даже намека на результат.
Аманда Маккриди к моменту исчезновения прожила на этом свете четыре года и семь месяцев. Мама уложила ее спать в субботу вечером, заглянула к ней около половины девятого, а на следующее утро в начале десятого увидела пустую кроватку.
Приготовленные на утро розовая футболка, джинсовые шортики, розовые носочки и белые кроссовки исчезли, как и любимая кукла Аманды по имени Горошина, светловолосая копия своей хозяйки. Следов борьбы в комнате не обнаружили.
Хелен с дочерью жили на втором этаже трехэтажного дома. Аманду могли похитить, поставив лестницу под окно спальни и открыв раму с москитной сеткой, но вряд ли. Ни на этой раме, ни на подоконнике не нашли никаких следов проникновения в комнату, в земле под окном углублений от лестницы не осталось.
Если четырехлетний ребенок не вздумал вдруг сам уйти из дому посреди ночи, значит, похититель вошел через парадную дверь. Он не взламывал замок и не отжимал дверь от косяка, в этом попросту не было необходимости — дверь держали незапертой.
Это обстоятельство выплыло на свет, и Хелен Маккриди изрядно досталось от журналистов. Через сутки после исчезновения бостонская газета «Новости», аналог «Нью-Йорк пост», вышла с таким заголовком на первой полосе:
ЗАХОДИТЕ:
Мама малышки Аманды оставила дверь незапертой.
Под заголовком поместили две фотографии: на одной Аманда, на другой — парадная дверь квартиры настежь открыта. Под нее явно что-то подложили, чтобы смотрелось поубедительней. В полиции заявили, что наутро, когда обнаружилось исчезновение Аманды, дверь — да, была не заперта, но и не была так широко распахнута.
Для большинства жителей города такие тонкости особого значения не имели. Хелен Маккриди оставила четырехлетнюю дочь одну в незапертой квартире, а сама пошла к соседке Дотти Мэхью смотреть телевизор — две комедии и кинофильм недели, под названием «Грехи ее отца» с Сюзан Сомерс и Тони Кертисом в главных ролях. После новостей начался развлекательный выпуск «В выходные вечером», Хелен досидела до середины и вернулась домой.
Примерно три часа сорок пять минут Аманда оставалась одна в незапертой квартире, и за это время она либо вышла из дома сама, либо ее похитили.
Мы с Энджи, как и весь город, внимательно следили за развитием событий и, как и все остальные, не знали, что думать. Хелен Маккриди успешно прошла испытание на детекторе лжи, не оставив полиции ни одной зацепки. Поговаривали, что к поискам привлекают экстрасенсов. На улице стояло бабье лето, большинство окон в доме в ту роковую ночь были открыты. Соседи и случайные прохожие не заметили ничего подозрительного, не слышали ничего такого, что можно было бы принять за детский крик. Никто не видел ни малолетнего ребенка, идущего по улице в одиночку, ни подозрительного человека, ни людей с ребенком или странным на вид свертком в руках.
Аманда Маккриди будто сквозь землю провалилась.
Сегодня днем к нам заходила невестка Хелен, Беатрис Маккриди. Вряд ли мы сможем сделать для ее племянницы нечто, чего еще не сделали сотня полицейских, половина бостонских журналистов и тысячи простых горожан.
— Миссис Маккриди, — сказал я, — поберегите ваши деньги.
— Но если они помогут спасти Аманду…
Вечером в среду, когда час пик на проспекте внизу под окнами утих до редких гудков и всхрапов двигателей, мы с Энджи сидели в офисе на колокольне церкви Святого Варфоломея в Дорчестере и слушали, как дядя и тетя Аманды излагают суть дела.
— Кто отец девочки? — спросила Энджи.
По-видимому, обязанность отвечать на подобные вопросы была возложена на плечи Лайонела.
— Не знаем. Возможно, Тодд Морган. Он уехал из города сразу после того, как Хелен забеременела. С тех пор о нем не слышали.
— Но список возможных отцов довольно длинный, — поджав губы, произнесла Беатрис.
Лайонел уставился в пол.
— Мистер Маккриди. — Я негромко попытался вывести его из созерцательного состояния.
Он поднял глаза:
— Лайонел.
— Пожалуйста, Лайонел, присядьте.
После недолгой борьбы с самим собой он устроился на стуле по другую сторону стола.
— Этот Тодд Морган… — сказала Энджи, записав имя в блокнот. — Полиции известно, где он находится?
— В Мангейме, в Германии, — ответила Беатрис. — Его армейская часть там базируется. В ту ночь он был на базе.
— Его исключили из списка подозреваемых? — спросил я. — Не мог он для такого дела нанять кого-нибудь?
Лайонел откашлялся.
— В полиции говорят, он мою сестру знать не хочет и, как бы то ни было, не считает Аманду своим ребенком. — Взгляд у Лайонела был добрый и растерянный. — Так и сказал, мол, «нужна была бы мне доченька, чтобы срала и орала все время, я бы себе немецкую завел».
Видно было: чтобы повторить эти слова, Лайонелу пришлось сделать над собой усилие. Я кивнул.
— Расскажите о Хелен.
Рассказать они смогли немного. Хелен Маккриди была младше Лайонела на четыре года, то есть сейчас ей двадцать восемь. В первый же год после перехода в среднюю школу имени монсеньора Райана она бросила учебу, осталась без аттестата о среднем образовании, правда, все-таки собиралась его получить, но собиралась уже давно. В семнадцать лет уехала с каким-то типом на пятнадцать лет ее старше. Они прожили полгода на стоянке автоприцепов в Нью-Гэмпшире, после чего Хелен вернулась домой с синяками на лице. Тогда же она сделала первый из своих трех абортов. С тех пор сменила несколько мест работы: кассиром в «Зайди и купи», секретарем в «Шахматном короле», работником химчистки, приемщицей на почте, но больше полутора лет нигде не удерживалась. После исчезновения Аманды она взяла отпуск на своей работе, которая оставляла ей много свободного времени и состояла в управлении лотерейным аппаратом в «Маленьком персике». И, судя по всему, выходить из этого отпуска Хелен не собиралась.
— Но девочку она любила, — закончил рассказ Лайонел.
Беатрис, похоже, придерживалась иного мнения, но промолчала.
— Где сейчас Хелен? — спросила Энджи.
— У нас, — ответил Лайонел. — Юрист говорит, что мы должны ограничить ее общение с посторонними как можно дольше.
— Почему? Ведь пропал ребенок. Почему не привлечь общественность? По крайней мере, опросить соседей по улице?
Лайонел открыл рот, потом закрыл и посмотрел на свои ботинки.
— Это не для Хелен, — сказала Беатрис.
— Почему же? — спросила Энджи.
— Потому что… ну, потому что это Хелен.
— Полиция прослушивает телефон у нее на квартире на случай, если потребуют выкуп?
— Прослушивает, — сказал Лайонел.
— А Хелен совсем в другом месте, — заметила Энджи.
— Ей и так досталось. Ей важно, чтобы в ее жизнь не вторгались. — Лайонел с вызовом поглядел на нас.
— О, — сказал я. — Чтобы не вторгались.
— Ну, разумеется, — сказала Энджи.
— Послушайте, — Лайонел опять стал мять в руках кепку, — я понимаю, как это выглядит со стороны. Понимаю. Но каждый беду переживает по-своему. Так ведь?
Я неуверенно кивнул.
— Если у нее было три аборта, — начал я, и Лайонел поморщился, — что побудило ее родить Аманду?
— По-моему, возраст. — Лайонел подался вперед, лицо его просветлело. — Видели бы вы, как она изменилась во время беременности. Жизнь обрела смысл, понимаете? Она думала, что с появлением ребенка все наладится.
— Для нее — да, — заметила Энджи. — А как насчет ребенка?
— Вот как раз об этом я ей и говорила, — вставила Беатрис.
Лайонел обернулся к женщинам, в его глазах заплескалось отчаяние.
— Они были нужны друг другу. Я так думаю.
Беатрис посмотрела на свои туфли, Энджи — в окно.
Лайонел снова обратился ко мне:
— Это действительно так.
Я кивнул, и его лицо гончей собаки приняло умиротворенное выражение.
— Лайонел, — сказала Энджи, продолжая смотреть в окно, — я читала газеты. Никаких предположений о возможном похитителе нет. Полиция ничего сделать не может, и, судя по тому, что пишут, у Хелен тоже нет никаких идей по этому поводу.
— Знаю, — кивнул Лайонел.
— Хорошо. — Энджи отвернулась от окна и посмотрела на него. — Что же, по-вашему, произошло?
— Не знаю, — сказал он и так скрутил кепку, что мне показалось, она сейчас порвется в его ручищах. — Ее будто летающая тарелка унесла.
— Хелен с кем-нибудь встречалась последнее время?
Беатрис фыркнула.
— Был у нее кто-нибудь постоянный? — спросил я.
— Нет, — ответил Лайонел.
— Пишут, что она поддерживала отношения с сомнительными личностями, — заметила Энджи.
Лайонел пожал плечами, будто иначе и быть не могло.
— Она обычно торчит целыми днями в «Филмо Тэп», — сказала Беатрис.
— Самый большой притон в Дорчестере, — заметила Энджи.
— А сколько баров борются за честь таковым считаться! — сказала Беатрис.
— Не так уж он и плох. — Лайонел посмотрел на меня, надеясь на поддержку.
Я покачал головой.
— Постоянно приходится ходить с пистолетом, Лайонел, но в «Филмо» мне все равно как-то не по себе.
— «Филмо» известен как бар наркоманов, — сказала Энджи. — Героин и кокаин там толкают, как жареные куриные крылышки. Ваша сестра употребляет наркотики?
— Вы имеете в виду героин?
— Имеются в виду любые наркотики, — сказала Беатрис.
— Травку иногда курит, — сказал Лайонел.
— Иногда? — переспросил я. — Или часто?
— Часто — это сколько?
— Кальян, бумагу для самокруток на тумбочке у кровати держит? — спросила Энджи.
Лайонел покосился на нее.
— У Хелен нет зависимости, — сказала Беатрис. — Она просто иногда балуется.
— А кокаин?
Беатрис кивнула, и Лайонел, ошеломленный, посмотрел на нее.
— Таблетки?
Беатрис пожала плечами.
— Колется?
— Нет-нет, — поторопился Лайонел.
— Насколько я знаю, нет, — сказала Беатрис и задумалась. — Нет. Мы видели ее в шортах и рубашке без рукавов все лето. Никаких следов не было.
— Погодите. — Лайонел выставил руку. — Погодите-ка. Мы же обсуждаем, как Аманду найти, а не вредные привычки моей сестры.
— Нам надо знать о Хелен все, о ее привычках и друзьях, — сказала Энджи. — Причины исчезновения ребенка обычно кроются в семье.
— Что это значит? — нахмурился Лайонел.
— Сядь, — сказала Беатрис.
— Нет. Я хочу понять, что это значит. Вы что же, думаете, моя сестра имеет какое-то отношение к исчезновению Аманды?
Энджи спокойно и пристально посмотрела на него:
— Это вы мне скажите.
— Нет, — громко сказал он. — Так? Нет. — Лайонел посмотрел сверху вниз на жену. — Она — не преступница, ясно? Она — женщина, потерявшая ребенка. Вам понятно?
Беатрис взглянула на него. По лицу невозможно было догадаться, что у нее на уме.
Лайонел долго смотрел на жену, потом перевел взгляд на Энджи.
— Лайонел, — окликнул его я, и он обернулся. — Вы сами сказали, что Аманду будто летающая тарелка унесла. Хорошо. Ее ищут пятьдесят полицейских. Может, и больше. Вы оба этим занимались. Соседи по улице…
— Да, — сказал он. — Многие. Отличные люди.
— Хорошо. Так где девочка?
Он уставился на меня так, будто я мог вдруг вытащить ее из ящика стола.
— Не знаю. — Он закрыл глаза.
— И никто не знает, — сказал я. — И если мы собираемся этим заниматься — я не хочу сказать, что мы обязательно…
Беатрис выпрямилась на стуле и пристально посмотрела на меня.
— Но если… надо исходить из того, что если Аманду похитили, то кто-то из близких к ней людей.
Лайонел снова сел.
— Вы все-таки думаете, что ее похитили?
— А вы так не думаете? — уточнила Энджи. — Четырехлетний ребенок сам убегает из дому, отсутствует три дня, и все это время никто его не видит?
— Да, — выдохнул он, как будто согласившись с чем-то, что знал, но до сих пор не сознавал. — Да. Наверное, вы правы.
— Так что же нам теперь делать? — спросила Беатрис.
— Хотите честно? — спросил я.
Она чуть наклонила голову.
— Даже не знаю.
— У вас сын скоро в школу пойдет, да?
Беатрис кивнула.
— Потратьте деньги, которые заплатили бы нам, на его образование.
Голова Беатрис осталась склоненной немного направо, на мгновение на лице возникло такое выражение, будто она получила пощечину.
— Вы что же, не возьметесь за это дело?
— Не знаю, есть ли в этом смысл.
— Ребенок про… — Беатрис повысила голос, заполнив им пространство небольшого помещения.
— Да, пропал, — перебила ее Энджи. — Да, но девочку ищут. Много народу. Новости смотрят почти все. Теперь жители города и, вероятно, почти всего штата могут узнать ее в лицо. И поверьте мне, теперь будут смотреть во все глаза.
Беатрис взглянула на Лайонела. Он слегка пожал плечами. Она отвернулась от мужа и стала буравить меня немигающим взглядом. Невысокая женщина, не более чем метр шестьдесят, бледное скуластое веснушчатое лицо в форме сердечка сохранило детскую округлость, нос кнопкой, вид не то чтобы очень солидный. Но вокруг нее была мощная аура, казалось, уступить и умереть для нее — одно и то же.
— Я пришла к вам, — сказала она, — потому что вы находите пропавших. Вы это умеете. Вы нашли типа, который перебил столько народу несколько лет назад, вы спасли того малыша и его мать с игровой площадки, вы…
— Миссис Маккриди…
— Меня все отговаривали к вам идти. И Хелен, и муж, и полиция. Все твердили, что я зря потрачу деньги, что Аманда не мой ребенок…
— Дорогая. — Лайонел прикрыл ее руку своей, но Беатрис стряхнула ее, подалась вперед и гневно уставилась на нас своими сапфировыми глазами.
— Мистер Кензи, вы сможете ее найти.
— Нет, — мягко сказал я. — Если ее надежно спрятали, не смогу. Если те, кто не хуже нас, не смогли — тоже не смогу. Мы просто еще двое, миссис Маккриди. Только и всего.
— То есть вы хотите сказать… — ледяным тоном произнесла она.
— Мы хотим сказать, — не дала ей договорить Энджи, — что пользы от лишних двух пар глаз будет немного.
— А вреда? Можете вы мне ответить на такой вопрос? Сильно эти две лишние пары повредят?
С точки зрения сыщика, если исключить побег из дома или похищение другим родителем, исчезновение ребенка сродни убийству: если дело не раскрыто в первые трое суток, скорее всего, оно не будет раскрыто вообще. Это вовсе не обязательно значит, что ребенок мертв, хоть вероятность такого исхода и велика. Но если ребенок жив, его положение определенно хуже, чем непосредственно после исчезновения. Потому что спектр мотиваций взрослых, оказывающихся рядом не со своим ребенком, крайне узок. Либо вы помогаете этому ребенку, либо вы его используете. Использовать детей можно разными способами — требовать с родителей выкуп, принуждать к труду, развращать для проституции и/или ради удовлетворения сексуальных потребностей похитителя, убивать в собственное удовольствие, — но ни один из этих способов не во благо ребенка. И если он останется жив и будет в конце концов найден, нанесенная ему психологическая травма так глубока, что следы ее не изгладятся, скорее всего, никогда.
За последние четыре года я убил двоих. На моих глазах умирали мой старый друг и женщина, которую я едва знал. Я видел самые отвратительные надругательства над детьми, знал мужчин и женщин, которые убивали импульсивно, наблюдал, как человеческие отношения разрушались от насилия.
И я устал от этого.
Аманду Маккриди искали уже как минимум шестьдесят или семьдесят часов, и мне вовсе не улыбалось обнаружить ее в каком-нибудь мусорном баке с запекшейся в волосах кровью. Я не хотел встретить ее через полгода при дороге с пустотой во взгляде, использованной каким-нибудь извращенцем с видеокамерой и списком адресов педофилов. Мне не хотелось смотреть в мертвые глаза живого четырехлетнего человека.
Я не хотел находить Аманду Маккриди. Хотел найти кого-нибудь другого. Но то ли оттого, что в последние несколько дней меня это дело зацепило, как и других жителей города, то ли оттого, что все это произошло по соседству, в нашем квартале, или просто потому, что слова «исчезновение» и «четырехлетней» не должны встречаться в одной и той же фразе, мы согласились через полчаса встретиться с Лайонелом и Беатрис Маккриди на квартире у Хелен.
— Так вы возьметесь за это дело? — спросила Беатрис.
Они с мужем поднялись, собираясь уходить.
— Мы должны это обсудить.
— Но…
— Миссис Маккриди, — сказала Энджи, — мы следуем заведенному порядку. Прежде чем на что-либо согласиться, мы должны взвесить все за и против. Что-то вроде производственного совещания.
Беатрис это явно не понравилось, но она понимала, что вряд ли может тут что-то поделать.
— Мы заглянем к Хелен через полчаса, — сказал я.
— Спасибо, — сказал Лайонел и потянул жену к двери.
— Да. Благодарю вас, — сказала Беатрис, но, как мне показалось, не вполне искренне.
Я подумал, что сейчас ее устроил бы лишь указ президента о розыске Аманды силами Национальной гвардии.
Мы прислушивались к затихающим шагам на лестнице колокольни, потом я смотрел из окна, как они вышли со школьного двора рядом с церковью и прошли к старенькому «додж-овену». Солнце ушло из моего окна на запад, небо в начале октября по-прежнему оставалось по-летнему белесым, но по нему уже плыли охристые разводы. С четвертого этажа донесся детский голос: «Винни, подожди! Винни!» — в нем угадывалось одиночество и незавершенность. Машина с супругами Маккриди выехала на проспект, развернулась, я смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду.
— Не знаю, — сказала Энджи, откинулась на спинку стула, положила ноги в кроссовках на стол и отбросила прядь волос со лба. — Просто не знаю, как тут быть.
Она была в черных лайкровых велосипедных шортах, свободной черной рубашке, надетой поверх белой майки. На черном красовалась белая надпись NIN,[1] а на спине — PRETTY НАТЕ MACHINE.[2] Эту рубашку она купила около восьми лет назад, но та до сих пор была как новая. Мы прожили с Энджи почти два года. Своему гардеробу она уделяла времени ничуть не больше, чем я своему, но мои рубашки через полчаса после того, как я их надевал, выглядели так, будто ими протирали движок автомобиля, а Энджи носила вещи годами, чуть ли не со школы, и все, чему положено быть белым, так и было белым. Женщины и их одежда часто поражали меня этими своими особенностями, и я решил, что это одна из тех загадок, которые мне не разгадать, например, что на самом деле случилось с Амелией Эрхарт[3] или куда делся колокол, когда-то висевший в нашем офисе.
— В каком смысле не знаешь, как быть?
— Исчез ребенок, мать не слишком озабочена поисками, напористая тетка…
— По-твоему, Беатрис слишком напориста?
— Как «свидетель Иеговы», одной ногой переступивший через порог твоей квартиры.
— Ну так она о племяннице беспокоится…
— Сочувствую ей. — Энджи пожала плечами. — Но этот ее напор мне все равно не нравится.
— М-да, способность противостоять напору — не самая твоя сильная черта.
Энджи швырнула в меня карандаш, я поискал глазами, чем бы бросить в нее в ответ.
— Все хиханьки да хаханьки, пока кто-то не останется без глаза, — проворчал я, ощупывая ногой пол под столом — вдруг карандаш завалялся.
— Ну что, дела у нас идут просто отлично, — сказала Энджи.
— Точно. — Карандаша ни под стулом, ни под столом не было.
— В этом году сделали больше, чем в прошлом.
— А ведь еще только октябрь. — Карандаша не оказалось ни в углублениях между половицами, ни под мини-холодильником. Может быть, он был уже там, где Амелия Эрхарт, Аманда Маккриди и колокол.
— Начало октября.
— Хочешь сказать, такое дело нам ни к чему?
— Слишком много мороки. Морока ни к чему.
Я смирился с тем, что карандаш не найти, и посмотрел в окно. Охристые разводы сгустились до кроваво-красных, белое небо, постепенно темнея, становилось голубым. В окне третьего этажа в доме напротив зажегся свет. Запах воздуха, проходившего через москитную сетку, напомнил о ранней юности и стикболе, о давно ушедшей беззаботности.
— У тебя есть возражения? — нарушила молчание Энджи.
Я пожал плечами.
— Говори сейчас же, а то схлопочешь.
Я обернулся и посмотрел на Энджи. Закатное солнце светило прямо в окно, и ее темные волосы отливали золотом. По опыту с другими женщинами я знал, что через некоторое время после сближения первым делом перестаешь замечать их красоту. Умом понимаешь, что она все та же, но ослабевает ее способность эмоционально переполнять и поражать тебя, доводить до опьянения. Однако до сих пор от одного только взгляда на Энджи сладкая боль растекается у меня в груди по нескольку раз на дню.
Энджи долго выдерживала мой взгляд.
— Я тоже тебя люблю, — сказала она.
— Да?
— Угу.
— И сильно?
— Когда как. — Она пожала плечами.
Мы сидели некоторое время молча. Взгляд Энджи, поблуждав по комнате, остановился на окне.
— Просто сомневаюсь, что именно сейчас нам нужен этот… бардак.
— Под бардаком имеется в виду?..
— Розыски пропавшего ребенка. Хуже того, бесследно исчезнувшего. — Она зажмурилась и втянула носом теплый воздух. — Мне нравится быть счастливой. — Энджи открыла глаза, но не отводила взгляд от окна. Ее подбородок слегка подрагивал. — Понимаешь?
Прошло полтора года с тех пор, как мы с Энджи довели до логического завершения то, что друзья называли романом и что тянулось больше десяти лет. И эти восемнадцать месяцев стали самыми прибыльными за всю историю нашего сыскного агентства.
Около двух лет назад мы закрыли или, лучше сказать, пережили дело Джерри Глинна. Первый за последние тридцать лет бостонский серийный убийца привлек к себе немало внимания, как и те, кому посчастливилось его поймать. Широкая слава — освещение в новостях по всей стране, нескончаемые перепечатки в таблоидах, две книги, написанные по следам событий, и слухи о том, что вот-вот должна выйти третья, — все это сделало нас с Энджи самыми известными детективами в городе.
На протяжении пяти месяцев после гибели Джерри Глинна мы не брались за новые дела, что, кажется, только сработало как дополнительная реклама. Закончив поиски пропавшей Дезире Стоун, мы снова занялись расследованиями, предварительно известив об этом заинтересованную общественность. Первые несколько недель на лестнице, ведущей на нашу колокольню, невозможно было протолкнуться. Не признаваясь себе, мы с ходу отказывались от дел, от которых веяло насилием или в которых требовалось исследовать темные стороны человеческой натуры. Нам требовалась передышка, поэтому мы работали только со случаями мошенничества со страховкой, должностными преступлениями в корпорациях и несложными разводами.
В феврале дошли до того, что сподвиглись на поиск игуаны, пропавшей у некой пожилой дамы. Омерзительную тварь звали Пыжик, это чудовище мужского пола сорока трех сантиметров в длину, переливающееся разными оттенками зеленого, как выразилась его владелица, было «негативно настроено по отношению к человечеству». Взяли мы Пыжика на лоне природы в пригороде Бостона. Бешено размахивая своим шипованным хвостом, он как ненормальный рванул по влажноватому полю для игры в гольф номер четырнадцать в «Бельмонт Хиле Кантри Клаб», за которым углядел возможность погреться на солнышке. Он замерз и сопротивления не оказал. Но на заднем сиденье служебной машины облегчился, выложив из себя все подчистую, так что стал похож на кожаный ремень. Правда, его владелица заплатила за чистку салона и щедро вознаградила нас за возвращение питомца.
Вот такой выдался год. Не требовавший никаких подвигов, зато щедрый в плане пополнения банковского счета. И хоть постыдишься потом рассказывать, что в самую гнилую погоду гонялся за полоумной ящерицей по площадке для гольфа, это все же лучше, чем когда в тебя стреляют. Гораздо лучше.
— Совсем мы с тобой хвост поджали, — констатировала недавно Энджи.
— Точно, — удовлетворенно кивнул я.
— А вдруг ее уже нет? — сказала Энджи, пока мы спускались по лестнице с колокольни.
— Тогда плохо.
— Хуже, чем просто плохо.
— Хочешь отказаться? — Я открыл дверь на задний двор школы.
Она посмотрела на меня, будто боялась облечь в слова, услышать себя и понять, что отказывается помочь попавшему в беду ребенку.
— Не хочу пока соглашаться.
Я кивнул, хорошо понимая, что она чувствует.
— Все вокруг этого исчезновения дурно попахивает, — пробормотала Энджи, пока мы ехали по Дорчестер-авеню к дому Хелен и Аманды.
— Согласен.
— Четырехлетки сами не пропадают.
— Уж это точно.
Люди, поужинав, выходили из домов, одни ставили на террасах шезлонги, другие тянулись к барам или спортивным площадкам покидать в сумерках мяч. В неподвижном воздухе пахло серой фейерверков.
Энджи подтянула колени к груди, уперлась в них подбородком.
— Пусть я трусиха, но ловля игуан на полях для гольфа меня вполне устраивает.
Мы свернули с Дорчестер-авеню на Сэвин-Хилл-авеню.
— Меня тоже, — сказал я.
Когда исчезает ребенок, пространство, которое он занимал, сразу заполняется десятками людей. Родственники, друзья, полиция, журналисты и корреспонденты, энергичные и шумные, создают ощущение сплоченности общества.
Но в этом шуме особенно заметно отсутствие голоса самого ребенка. Его отсутствие вы чувствуете рядом с собой постоянно, оно взывает к вам из всех углов, от каждой игрушки. Это отсутствие — совсем не то, что на похоронах или поминках. Молчание мертвых несет в себе завершенность и окончательность, вы понимаете, что должны к нему привыкнуть. Но к молчанию пропавшего ребенка вы привыкать не хотите; вы отказываетесь принять его, и потому оно вопиет.
Молчание мертвых значит «прощайте».
Молчание исчезнувших значит «найдите меня».
Казалось, в квартире Хелен Маккриди собралось чуть ли не пол-округи окрестных жителей и солидная часть личного состава бостонской полиции. Повсюду стояли полицейские телефонные аппараты, и ни один не простаивал без дела; еще несколько человек говорили по мобильникам. Коренастый мужчина в футболке с надписью «Я из Дот-Рэт,[4] и горжусь этим» на секунду оторвался от сложенных стопкой на кофейном столике листовок:
— Беатрис, четвертый канал приглашает Хелен завтра в шесть вечера.
Какая-то женщина закрыла ладонью микрофон сотового телефона:
— Звонят продюсеры Энни из Эй-эм,[5] Хелен завтра утром сможет прийти на передачу?
— Миссис Маккриди, — позвал полицейский из столовой, — вы нам нужны, подойдите на секундочку!
Беатрис кивнула коренастому и женщине, бросила нам: «Спальня Аманды — первая дверь направо», и стала пробираться в сторону столовой.
Дверь в комнату девочки была открыта, внутри было темно и тихо, звуки с улицы сюда не проникали. Послышался шум спускаемой воды, и из туалета, застегивая ширинку, вышел полицейский.
— Друзья семьи? — спросил он.
— Да.
Он кивнул.
— Ничего тут, пожалуйста, не трогайте.
— Не тронем, — успокоила его Энджи.
Он опять кивнул и прошел через прихожую на кухню.
Надавив на выключатель ключом от машины, я зажег свет. Разумеется, здесь уже все обработали специальным порошком и проверили на наличие отпечатков пальцев, но я знал, что полиция не любит, когда на месте преступления трогают вещи без перчаток.
Над кроваткой Аманды на шнуре с потолка свисала голая лампочка, отсутствие медного декоративного колпачка обнажало пыльные провода. Потолок давно требовал покраски, а летний зной сделал свое дело с развешанными по стенам плакатами: мне были видны три, и все они, свернутые в сплюснутые трубки, валялись у плинтуса. На стене, там, где они висели раньше, топорщились ошметки скотча.
Планировкой эта квартира не отличалась от моей и других типовых квартир большинства трехэтажных домов этого квартала. Тут было две спальни, одна примерно в два раза больше другой. Большую — справа за туалетом напротив кухни — занимала Хелен, меньшую — Аманда. Первая окнами выходила на заднюю террасу и небольшой дворик, вторая — на соседний трехэтажный дом, и в полдень света здесь было так же мало, как и сейчас, в восемь часов вечера.
Все в комнате было старое, мебели мало. Комод, стоявший напротив кроватки, явно купили на распродаже. Кроватка представляла собой пружинный каркас, на котором лежали: тюфячок, две простыни и сверху ватное одеяльце с изображением Короля-Льва. И одеяльце, и обе простыни были разных расцветок.
На полу валялась, бессмысленно таращась в потолок, кукла; мягкий заяц повернулся на бочок, привалившись спинкой к комоду. На комоде стоял старый черно-белый телевизор, на тумбочке — небольшой радиоприемник, но никаких книжек, даже раскрасок в комнате не было.
Я попробовал представить себе живущую здесь девочку. Я пересмотрел множество ее фотографий, но никак не мог себе представить, какое выражение принимало ее лицо, когда она входила в эту комнату, отправляясь спать, или когда просыпалась здесь утром.
Пробовала ли она прикрепить упавшие плакаты к стене? Интересовалась ли книжками с пестрыми обложками и объемными картинками? Глазела ли перед сном на торчащий из стены длинный гвоздь над комодом или желтовато-коричневый подтек, расползшийся в углу с потолка до стены. Я взглянул на сияющие нарисованные глаза куклы, и мне захотелось наступить на них.
— Мистер Кензи, мисс Дженнаро! — позвала нас из кухни Беатрис.
Мы последний раз окинули взглядом комнату, я снова ключом погасил свет.
На кухне, прислонившись к плите и засунув руки в карманы, стоял какой-то мужчина. По его лицу я понял, что он ждет именно нас. Он был чуть ниже меня ростом, широк и кругл, как бочка с дизельным топливом. Его лицо раскраснелось, будто он долго находился на солнце. В нем ощущалась какая-то суровость и непреклонность, казалось, он с первого взгляда видит собеседника насквозь.
— Лейтенант Джек Дойл. — Он стремительно протянул мне руку.
Я пожал ее.
— Патрик Кензи.
Энджи представилась сама и тоже пожала ему руку. Он внимательно всматривался в наши лица. Прочитать что-то на его лице было невозможно, но его долгий, внимательный взгляд обладал какой-то магнетической силой. Хотелось не отрываясь смотреть ему в глаза, хотя нам бы по разным соображениям следовало смотреть куда-нибудь в сторону.
За последние несколько дней я не раз видел его по телевизору. Он возглавлял группу, занимающуюся расследованием преступлений против детей, и, когда он, глядя в камеру, говорил, что разыщет Аманду Маккриди во что бы то ни стало, телезрителю сразу становилось жаль тех, кто ее похитил.
— Лейтенант Дойл хотел познакомиться с вами, — сказала Беатрис.
— Ну, вот и познакомились, — кивнул я.
Дойл улыбнулся.
— Уделите мне минутку?
Не дожидаясь ответа, он прошел к двери, выходящей на террасу, открыл ее и через плечо посмотрел на нас.
— Видимо, придется, — вздохнула Энджи.
Перила террасы нуждались в покраске даже сильнее, чем потолок в спальне Аманды. Стоило их коснуться, как облупившаяся, рассохшаяся краска начинала трещать. Пахло шашлыками, которые жарили где-то поблизости, из соседнего квартала доносились звуки, обычно сопровождающие вечерники на заднем дворе, — женский голос громко жаловался на солнечные ожоги, по радио выступала группа «Mighty Mighty Bosstones». Откуда-то доносился резкий смех, похожий на перестук ледяных кубиков в бокале. Не верилось, что уже октябрь и вот-вот наступит зима. Не верилось, что Аманда Маккриди уплывает от нас все дальше и дальше, а Земля продолжает себе вращаться.
— Итак, — Дойл облокотился на перила, — распутали уже дело?
Энджи страдальчески закатила глаза.
— Нет, — ответил я, — но теперь уже совсем скоро.
Дойл тихонько посмеялся, глядя вниз на цементную заплатку в асфальте и сухую траву под террасой.
— Мы так понимаем, это вы не советовали Маккриди обращаться к нам?
— С какой это стати?
— На вашем месте я бы тоже так поступила. По той же причине, — сказала Энджи.
Он повернулся и посмотрел на нее.
— Поваров слишком много, — добавила она.
— Отчасти дело в этом, — кивнул Дойл.
— Расскажите про другую часть, — попросил я.
Он сцепил пальцы и напряг руки, так что затрещали суставы.
— Эти люди, думаете, как сыр в масле катаются? У них что, яхты, люстры, усыпанные бриллиантами, и все так скрыто, что даже я не знаю?
— Нет.
— С той истории с Джерри Глинном вы, говорят, дерете с клиентов довольно прилично.
Энджи кивнула:
— Гонорары тоже приходится выплачивать довольно приличные.
Дойл слегка улыбнулся, отвернулся к перилам, держась за них обеими руками, и, стоя на каблуках, отклонился назад.
— К тому времени, как вы найдете девочку, — сказал Дойл, — Лайонел и Беатрис окажутся в долгах на несколько сотен тысяч. Это в лучшем случае. А ведь они — всего лишь дядя и тетя, но будут покупать рекламное время на телевидении, давать объявления на целые полосы во все федеральные газеты, обклеят ее фотографиями рекламные щиты вдоль шоссе, будут нанимать экстрасенсов, шаманов и частных сыщиков. — Он снова повернулся к нам: — Они разорятся, понимаете?
— Это одна из причин, почему мы пытались отказаться от этого дела, — сказал я.
— В самом деле? — Он поднял бровь. — Тогда что вы тут делаете?
— Беатрис настойчива, — сказала Энджи.
Дойл обернулся на окно кухни.
— Есть немного.
— Странно, что мать Аманды никак себя не проявляет.
Дойл пожал плечами.
— В последнюю нашу встречу она была совсем осоловевшая от транквилизаторов, от прозака или что там дают теперь родителям пропавших детей. Послушайте, мне бы не хотелось портить отношения с людьми, которые могут помочь в поисках. Серьезно. Я хочу быть уверен, что, во-первых, вы не будете путаться под ногами; во-вторых, не станете рассказывать журналистам, что вас ввели в игру оттого, что в полиции все такие пеньки, что, плывя в лодке, воду найти не могут; и, в-третьих, не воспользуетесь бедой этих людей, — он кивнул в сторону окна кухни, — чтобы выжимать из них деньги. Потому что мне Лайонел и Беатрис нравятся, так уж сложилось. Они хорошие люди.
— Повторите, пожалуйста, что там было во-вторых? — улыбнулся я.
— Лейтенант, — сказала Энджи, — как уже было сказано, мы изо всех сил уклоняемся от этого дела. Вряд ли будем всерьез заниматься им и перебежим вам дорогу.
Дойл уставился на нее долгим и пристальным взглядом:
— Тогда что вы тут делаете?
— Беатрис пока не принимает наш отказ.
— А вы, значит, думаете, все изменится, и она примет?
— Мы надеемся, — сказал я.
Он кивнул и, отвернувшись, стал смотреть вниз.
— Слишком долго.
— Что «долго»? — не поняла Энджи.
— С момента исчезновения четырехлетнего ребенка, — он вздохнул, — слишком много времени прошло.
— У вас никаких зацепок?
— Спорить, что они стоящие, на дом — не стану.
— А на второсортную квартирку?
Он пожал плечами.
— Истолкую этот жест как «да нет, пожалуй».
Он кивнул:
— Да нет, пожалуй. — Отслоившаяся краска зашуршала у него под ладонями, как сухие листья. — Сказать вам, как я попал в эту разыскную службу? Примерно двадцать лет назад дочка моя, Шэннон… исчезла. На сутки. — Он обернулся к нам и выставил указательный палец. — Даже и суток не прошло. С четырех часов дня до примерно восьми следующего утра, но ей было шесть. Вы не можете представить, как долго тянется ночь, когда у вас пропал ребенок. Последними Шэннон видели ее друзья, она ехала домой на велосипеде, кто-то вспомнил, что за ней очень медленно ехала машина. — Дойл потер глаза, шумно выдохнул. — Мы нашли ее на следующее утро в дренажной канаве возле парка. Свалилась с велосипеда, переломала голени, потеряла сознание от боли.
Он заметил выражение наших лиц и протестующее выставил ладонь.
— Это все ерунда, — сказал он. — Две сломанные голени, боль страшная, она потом некоторое время вообще всего боялась, это была самая серьезная травма, с какой мы все, дочь, жена и я, столкнулись в детстве Шэннон. Повезло. Просто чертовски повезло. — Он торопливо перекрестился. — Зачем я вам все это рассказываю? Пока Шэннон разыскивала вся округа и мои друзья-полицейские, а мы с Тришей ходили и ездили повсюду и рвали на себе волосы от отчаяния, заехали по дороге выпить по чашке кофе. Хотели взять его с собой, поверьте. И вот две минуты, пока стояли в очереди в «Данкин Донатс», я взглянул на Тришу, она — на меня, ни слова не было сказано, но мы оба поняли, что, если Шэннон мертва, нам тоже не жить. И браку нашему конец. И счастью нашему конец. И вся наша жизнь отныне станет одной долгой дорогой боли. И больше ничего в ней не будет. Все то хорошее, на что мы надеялись, все, ради чего жили, — все это умрет с нашей дочкой.
— И потому пошли работать в отдел по борьбе с преступлениями против детей?
— Поэтому создал отдел по борьбе с преступлениями против детей. Это мое детище. У меня ушло на это пятнадцать лет, но я это сделал. Отдел существует, потому что тогда в пончиковой я взглянул на свою жену и понял, что никто не может пережить потери своего ребенка. Никто. Ни вы, ни я, ни даже неудачница Хелен Маккриди.
— Хелен — неудачница? — спросила Энджи.
Он приподнял бровь.
— Знаете, почему она пошла к Дотти, а не наоборот?
Мы покачали головами.
— У Хелен кинескоп в телевизоре садится. Цвет то появляется, то исчезает, и Хелен это не нравится. Так она оставила ребенка и пошла к подружке.
— Смотреть телевизор.
Он кивнул:
— Да, смотреть телевизор.
— Ничего себе, — сказала Энджи.
Он пристально посмотрел на нас с минуту, потом подтянул брюки и сказал:
— Лучшие мои ребята Пул и Бруссард будут держать с вами связь. Если сможете помочь, честь вам и хвала. — Он снова потер лицо ладонями и покачал головой. — Черт. Устал я.
— Вы когда последний раз спали? — спросила Энджи.
— По-настоящему? — Он усмехнулся. — Несколько дней назад.
— Вам помощник нужен.
— Помощник мне не нужен. Мне этот ребенок нужен. Целый и невредимый. И еще вчера.
Хелен Маккриди смотрела себя по телевизору. На экране она была в голубом платье и жакете в тон с приколотым к лацкану бутоном белой розы. Волосы красивой волной спадали на плечи. Минимум косметики, разве что неброские тени подчеркивали выразительность глаз.
На настоящей Хелен Маккриди была розовая футболка с надписью «Рождена ходить по магазинам», и белые треники, обрезанные чуть выше колен. Собранные в конский хвост волосы столько раз перекрашивались, что уже забыли свой истинный цвет. Сейчас они напоминали нечто промежуточное между платиной и пшеничным полем, только пшеница была вся засаленная.
На диване рядом с Хелен сидела женщина примерно того же возраста, но более полная и бледная. Всякий раз, как она подносила к губам сигарету и наклонялась вперед поближе к телевизору, на белой коже внутренней поверхности плеча становились видны ямочки целлюлита.
— Смотри, Дотти, смотри, — сказала Хелен, — это Грегор и Хед Спарксы.
— Да ты что! — Дотти указала на экран, там двое мужчин прошли позади журналиста, бравшего интервью у Хелен. Оба они помахали в камеру.
— Видала, помахали, — улыбнулась Хелен. — Подонки.
— Клевые попки, — заметила Дотти.
Хелен поднесла к губам алюминиевую банку «Миллера» той же рукой, в которой держала сигарету, и, пока она пила, казалось, длинный изогнутый червячок пепла вот-вот коснется ее подбородка.
— Хелен, — сказал Лайонел.
— Погоди, — Хелен, не отрываясь от экрана, махнула ему банкой, — сейчас будет самое интересное.
Беатрис переглянулась с нами и закатила глаза.
Журналист в телевизоре спросил Хелен, кто, по ее мнению, мог похитить ее дочь.
— Как ответить на такой вопрос? — сказала Хелен в телевизоре. — То есть типа кто бы мог забрать мою девочку? Какой в этом смысл? Она никогда никому ничего плохого не сделала. Просто была маленькая девочка с очаровательной улыбкой. Только и делала все время, что улыбалась.
— У нее и правда была очаровательная улыбка, — сказала Дотти.
— И сейчас есть, — сказала Беатрис.
Женщина на диване как будто не слышала.
— О, отлично, — сказала Хелен, — отлично вышло. Просто идеально. Смотришь — прямо сердце разрывается. — Голос у Хелен вдруг сорвался, и она выпустила из рук банку с пивом ровно настолько, сколько потребовалось, чтобы достать салфетку «клинекс» из коробки, стоявшей на кофейном столике.
Дотти похлопала Хелен по коленке.
— Ну, ну, — заквохтала Дотти. — Все. Все.
— Хелен, — повторил Лайонел.
После интервью с Хелен показывали, как О. Дж.[6] играет в гольф где-то во Флориде.
— До сих пор не могу поверить, что это сошло ему с рук, — сказала Хелен.
Дотти повернулась к Хелен.
— Знаю, — сказала Дотти таким тоном, будто облегчила себе душу, раскрыв величайшую тайну.
— Не будь он черный, — сказала Хелен, — сидел бы сейчас в тюрьме.
— Не будь он черный, — сказала Дотти, — сел бы на электрический стул.
— Не будь он черный, — сказала Энджи, — вам обеим было бы до лампочки.
Обе обернулись и уставились на нас, будто удивляясь, откуда мы здесь взялись аж вчетвером.
— Что? — сказала Дотти, стреляя карими глазами.
— Хелен, — сказал Лайонел.
Под ее опухшими глазами расплылась тушь для ресниц.
— Что?
— Это Патрик и Энджи, те два детектива, о которых мы говорили.
Хелен вяло махнула нам уже изрядно промокшей салфеткой.
— Здрасте.
— Привет, — сказала Энджи.
— Здрасте, — сказал я.
— А я вас помню, — сказала Дотти, обращаясь к Энджи. — А вы меня помните?
Энджи вежливо улыбнулась и отрицательно покачала головой.
— Старшая школа, я была типа новенькая, а вы выпускались.
Энджи некоторое время подумала и снова отрицательно покачала головой.
— Я вас запомнила. Королева бала. Так вас тогда звали. — Дотти отхлебнула пива. — Вы все такая же?
— Какая? — не поняла Энджи.
— Ну, типа считаете себя лучше других. — Дотти стала рассматривать Энджи, но прищурилась при этом так сильно, что невозможно было понять, осмысленный у нее взгляд или нет. — Вот такая ты была во всем. Мисс совершенство. Мисс…
— Хелен. — Энджи отвернулась от Дотти и сосредоточилась на Хелен. — Нам надо поговорить.
Хелен, не донеся сигарету до губ на полсантиметра, замерла, уставившись на меня.
— Кого-то вы мне напоминаете. Дотти, правда?
— Что? — сказала Дотти.
— На кого-то он похож. — Хелен торопливо сделала две короткие затяжки.
— Кто? — спросила Дотти и тоже стала меня разглядывать.
— Ну, знаешь, — сказала Хелен, — на того парня. Того парня в передаче, ну, сама знаешь.
— Нет, — сказала Дотти и нерешительно мне улыбнулась. — В какой передаче?
— Ну, в той, — сказала Хелен. — Ты должна знать, о ком я говорю.
— Да не знаю я.
— Должна знать.
— В какой передаче? — Дотти обернулась к Хелен. — В какой?
Хелен поморгала, нахмурилась и снова посмотрела на меня.
— Вы вылитая его копия, — убежденно сообщила она.
— Пусть так, — согласился я.
Беатрис прислонилась к косяку двери и закрыла глаза.
— Хелен, — сказал Лайонел, — Патрику и Энджи надо поговорить с тобой об Аманде. Наедине.
— Что? — сказала Дотти. — Я типа мешаю, что ли?
— Нет, Дотти, — мягко сказал Лайонел. — Я этого не говорил.
— Я что, типа гребаная неудачница, Лайонел? Не так хороша, чтобы быть рядом с лучшей подругой, когда она во мне больше всего нуждается?
— Он этого и не говорит, — устало сказала Беатрис, не открывая глаз.
— Тогда опять-таки… — начал я.
Лицо Дотти пошло пятнами.
— Хелен, — торопливо проговорила Энджи, — давай мы быстренько зададим тебе несколько вопросов, и дело с концом.
Хелен посмотрела на Энджи. Потом перевела взгляд на Лайонела. Потом на телевизор. После чего уставилась на затылок Дотти. Та по-прежнему смотрела на меня в некоторой растерянности, не в силах решить, должна эта растерянность перерасти в гнев или нет.
— Дотти, — патетически заявила Хелен, — моя лучшая подруга. Моя лучшая подруга. Это что-то да значит. Хотите говорить со мной — говорите при ней.
Дотти перестала буравить меня взглядом и обернулась к своей лучшей подруге, а Хелен слегка подтолкнула ее локтем в колено.
Я взглянул на Энджи. Мы долго работали вместе и научились понимать друг друга без слов. На ее лице было написано «Да пошли они!». Жизнь слишком коротка, чтобы тратить лишние четверть секунды на Хелен или Дотти.
Лайонел кипел от бешенства.
Мы двинулись было к выходу, но тут Беатрис открыла глаза, преградила нам путь и произнесла одно слово:
— Пожалуйста.
— Нет, — покачала головой Энджи.
— Один час, — сказала Беатрис. — Дайте нам всего час. Мы заплатим.
— Дело не в деньгах.
— Пожалуйста, — сказала Беатрис и умоляюще посмотрела мне в глаза.
Я не выдержал.
— Один час, — сказал я, — и ни минутой больше.
Ее лицо осветилось радостью.
— Вы — Патрик, так? — подала голос Хелен. — Вас ведь так зовут?
— Так.
— Послушайте, не могли б вы встать чуть левее, Патрик? Вы мне телевизор загораживаете.
Прошло полчаса, но ничего нового мы не узнали.
Лайонел наконец уговорил сестру выключить телевизор, чтобы поговорить спокойно. Но без шумового сопровождения стало особенно заметно, что Хелен не в состоянии ни на чем сколько-нибудь долго удерживать внимание. Несколько раз во время разговора она украдкой поглядывала на экран, будто надеясь, что телевизор каким-то чудесным образом включится сам.
Едва телевизор выключили, Дотти, несмотря на громкие заявления о том, что не оставит свою лучшую подругу, сразу ушла из комнаты. Мы слышали, как она хозяйничает на кухне: лезет в холодильник, видимо за очередной банкой пива, роется на полках в поисках пепельницы.
Лайонел расположился рядом с сестрой на диване, мы с Энджи — на полу напротив музыкального центра. Беатрис присела на краешек дивана как можно дальше от Хелен, вытянула перед собой одну ногу, а другую, положив на колено, держала двумя руками за лодыжку.
Мы попросили Хелен подробно описать день исчезновения Аманды и задали еще несколько вопросов: не поссорились ли они с дочерью, не мог ли кто-то затаить обиду на Хелен и похитить ребенка из мести.
Хелен, не стараясь скрыть раздражения, сказала, что никогда не ссорилась с дочкой. Как она могла ссориться с девочкой, которая все время улыбалась? А когда не улыбалась, по-видимому, только и делала, что любила свою маму, а мама любила ее, и все время они только и делали, что любили друг друга да улыбались и улыбались. Врагов у Хелен вроде бы не было. А если бы и были, то, как она уже говорила полицейским, кто же станет похищать ребенка, чтобы отомстить матери? Воспитание ребенка — нелегкий труд, сказала Хелен. Его кормить надо, уверила нас она. Одеяльце подтыкать. А то и поиграть с ним.
Оттого и все эти улыбки.
В итоге мы не узнали ничего такого, чего еще не слышали бы в новостях или от Лайонела и Беатрис.
Что же касается отношения к самой Хелен, то чем больше мы говорили, тем противней мне было находиться с нею в одной комнате. Описывая день исчезновения дочери, Хелен призналась, что собственная жизнь ей отвратительна, она одинока, хорошие мужчины все куда-то подевались, Мексику надо отгородить стеной, а то эти мексиканцы понаехали тут, заняли в Бостоне все рабочие места, коренным жителям уж и работать негде. Хелен не сомневалась: цель программы либералов — развратить всякого приличного американца, но на вопрос «что это за программа либералов» ответить затруднилась, знала только, что это то, что мешает ее счастью и придумано, чтобы чернокожие могли без конца получать материальную помощь. Сама она такую помощь тоже получает, но последние семь лет изо всех сил старается от нее отказаться.
Об Аманде Хелен говорила как об угнанной машине или убежавшем домашнем животном — исчезновение дочери скорее вызывало у нее раздражение, чем какое-либо иное чувство. Ребенок пропал — и, бог ты мой, как же вся жизнь пошла наперекосяк!
Выходило, сам Господь помазал Хелен Маккриди на роль самой Великой мученицы. Остальные теперь могут делать что хотят — соревнование закончено.
— Хелен, — спросил я уже под конец разговора, — есть что-то такое, что вы забыли сказать полицейским и могли бы сказать сейчас нам?
Она взглянула на пульт, лежавший на кофейном столике, вздохнула.
— Что?
Я повторил вопрос.
— Тяжело, — сказала она. — Понимаете?
— Что? — не понял я.
— Воспитывать ребенка. — Хелен посмотрела на меня, ее тусклые глаза широко раскрылись, как будто она собиралась поделиться сокровенной мудростью. — Тяжело это. Совсем не то, что в кино показывают.
Мы с Энджи пошли из гостиной. Хелен сразу включила телевизор, а нам навстречу, как будто только того и ждала, шмыгнула Дотти с двумя банками пива.
Беатрис, Лайонел и мы с Энджи перешли на кухню.
— У нее не все благополучно в эмоциональной сфере, — сказал Лайонел.
— Ага, — подтвердила Беатрис, — сучка она. — И налила себе кружку кофе.
— Не говори о ней так, — сказал Лайонел. — Ради бога.
Беатрис налила кофе Энджи и вопросительно взглянула на меня.
Я приподнял банку кока-колы, показывая, что у меня еще есть.
— Лайонел, — сказала Энджи, — ваша сестра, похоже, не слишком расстраивается из-за исчезновения Аманды.
— Она очень горюет, — сказал Лайонел. — Это вчера? Да, вчера весь вечер проплакала. И перед нашим приходом, по-моему, тоже. Пытается совладать с горем. Понимаете?
— Лайонел, — сказал я, — при всем уважении… я вижу у нее только жалость к себе, но не вижу горя.
— Горюет. — Лайонел поморгал и посмотрел на жену. — Горюет, по-настоящему.
— Я понимаю, что уже это говорила, — сказала Энджи, — но я действительно не вижу ничего такого, что бы мы могли сделать и чего полиция еще не сделала.
— Верно, — вздохнул Лайонел. — Правда.
— Может быть, в дальнейшем, — сказал я.
— Конечно, — согласился он.
— Если расследование зайдет в тупик или когда ее найдут, — сказала Энджи. — Может, тогда.
— Ага. — Лайонел отошел от стены и протянул мне руку. — Спасибо, что зашли. За все спасибо.
— Всегда пожалуйста. — Я пошел было к нему совершить рукопожатие.
Но, услышав голос Беатрис, чистый и резкий, остановился.
— Ей четыре, — сказала она.
Я посмотрел на нее.
— Четыре года, — повторила Беатрис, устремив взгляд к потолку. — И она где-то неизвестно где. Может, потерялась. А может, и хуже.
— Дорогая, — сказал Лайонел.
Беатрис слегка покачала головой, посмотрела на свою кружку, запрокинула голову, закрыв глаза, допила остатки кофе, со стуком поставила кружку на стол и, сложив руки на груди, наклонилась вперед.
— Миссис Маккриди, — начал я, но она прервала меня, махнув рукой.
— Каждую секунду, когда поиски ослабевают, она это чувствует, — сказала Беатрис, подняла голову и открыла глаза.
— Дорогая, — сказал Лайонел.
— Перестань. Заладил «дорогая, дорогая». — Она посмотрела на Энджи: — Аманде страшно. Она пропала. А эта сучка, сестра Лайонела, сидит у меня в гостиной со своей жирной подружкой, сосет пиво да любуется собой по телевизору. И кто отстаивает интересы Аманды? А? — Она посмотрела на мужа. Она посмотрела на нас с Энджи, глаза ее были красны. Она посмотрела в пол. — Или нам насрать, жива Аманда или нет? Кто ж ей покажет, что нет?
В течение целой минуты на кухне только и слышно было, что урчание двигателя в холодильнике.
Потом Энджи очень тихо сказала:
— Мы, наверное.
Я посмотрел на нее и удивленно поднял брови. Она пожала плечами.
У Беатрис вырвалось нечто среднее между всхлипыванием и смешком. Приложив кулак к губам, она смотрела на Энджи глазами полными слез, которые отказывались капать.
Та часть Дорчестер-авеню, которая проходит неподалеку от моего дома, раньше по количеству ирландских баров уступала разве что Дублину. Мой отец, собирая деньги на нужды местной благотворительности, участвовал в марафонских обходах баров. Две кружки пива и рюмка крепкого в одном — и мужская компания переходила в следующий. Начинали они в «Филдз Корнер» в соседнем квартале и потом двигались по проспекту на север. Выигрывал тот, кто в более или менее вертикальном положении пересекал границу Южного Бостона, проходившую в паре километров от места старта.
Мой отец по этой части был вынослив как черт, этим же качеством, впрочем, обладали и другие участники, подписавшиеся на марафон, но за все годы его проведения до границы так ни разу никто и не добрался.
Большинства баров, в которых они тогда пили, теперь уж нет, их вытеснили вьетнамские рестораны и магазины. Эта часть проспекта, ныне известная под названием «тропа Хо Ши Мина» и проходящая через четыре квартала, вовсе не так плоха, как считают многие из моих белых соседей. Проехав по ней рано утром, вы увидите, как на тротуаре пожилой человек, стоя перед группой горожан такого же возраста, вместе с ними выполняет упражнения тай цзи цюань, увидите людей в национальных костюмах, похожих на темные шелковые пижамы, и больших соломенных шляпах. Говорят, будто бы тут действуют вьетнамские банды, или тонги, но сам я никогда с ними не сталкивался. Встречаются мне в основном вьетнамские ребятишки в темных очках с торчащими, густо напомаженными волосами, стоят себе, стараются выглядеть круто, смотрят на вас пристально и, на мой взгляд, ничем не отличаются от меня в таком возрасте.
Из прежних баров, переживших в нашем квартале последнюю волну эмиграции, очень хороши три, выходящие непосредственно на проспект. Их владельцы и посетители в дела вьетнамцев не вмешиваются, и вьетнамцы платят им тем же. Представители разных культур, кажется, не проявляют друг к другу особого интереса, и всех это вполне устраивает.
Еще один хороший бар, тоже относящийся к «тропе Хо Ши Мина», располагался не на самом проспекте, а на отходящей от него грунтовой дороге, которая совсем захирела в середине сороковых годов, когда город исчерпал источники финансирования, выделенные на ее благоустройство. Проход между домами, которым она пользовалась, никогда не видел солнечного света. С южной стороны над ним возвышалось здание размером с ангар, там помещалась компания, занимавшаяся автомобильными грузоперевозками, с северной — его блокировали плотно стоящие друг к другу «трехпалубные» жилые дома. В конце прохода находился пыльный «Филмо Тэп».
Во времена марафонов по барам Дорчестер-авеню даже люди из компании моего отца, все выпивохи и охотники подраться и поскандалить, «Филмо» обходили. Этот бар вычеркивали из маршрута, будто его и не было, и до недавнего времени я не знал никого, кто бы постоянно посещал это заведение.
Есть разница между баром, в который ходят суровые работяги, и баром, в который ходят опустившиеся белые. Типичным заведением последнего типа и был «Филмо». Драки в пролетарских барах случаются довольно часто, но ведутся они обычно кулаками, в худшем случае, изредка, может, дадут кому-нибудь пивной бутылкой по голове. В «Филмо» дракой сопровождалась каждая вторая кружка пива, и дрались здесь ножами с выкидным лезвием. Было что-то, что привлекало сюда людей, давным-давно утративших все, что стоило бы ценить. Сюда приходили, повинуясь велению наркотической зависимости, алкоголизма и ненависти. Шумной очереди желающих попасть в заведение у входа, как мы и предполагали, не было, но незнакомых, потенциальных клиентов, будущих завсегдатаев здесь, как выяснилось, встречали не слишком радушно.
В солнечный четверг после полудня мы вошли в темное помещение, освещенное слабым желтовато-зеленым светом. Бармен мельком взглянул на нас. По мере того как глаза привыкали к полумраку, мы различили четверых мужчин, сгрудившихся на углу стойки бара ближе ко входу. Один за другим они медленно поворачивались в нашу сторону и принимались нас разглядывать.
— Вот нужен Ли Марвин, и где он? — сказал я, обращаясь к Энджи.
— Или Иствуд, — подхватила она, — сейчас Клинт очень оказался бы кстати.
Двое в глубине помещения играли на бильярде. Да, мирно себе играли, а тут пришли мы и все испортили. Один из них посмотрел на нас и нахмурился.
Бармен повернулся к нам спиной и, задрав голову, уставился в телевизор, всецело поглощенный развитием событий в «Острове Гиллигана». Шкипер колотил Гиллигана фуражкой по голове. Профессор пытался его остановить. Хауелы смеялись. Мэриэн и Джинджер куда-то исчезли. Возможно, это имело отношение к развитию сюжета.
Мы с Энджи сели у дальнего от входа угла стойки рядом с барменом и стали ждать, когда он нас заметит.
Шкипер дубасил Гиллигана. По-видимому, его вывело из себя что-то, что натворила обезьяна.
— Отличная серия, — сказал я, обращаясь к Энджи, — они почти выбрались с острова.
— Да? — Энджи закурила сигарету. — Скажи, я тебя умоляю, что им помешало?
— Шкипер признается в любви своей милой, они все занимаются приготовлениями к свадьбе, и тут обезьяна уводит лодку со всеми их кокосовыми орехами.
— Точно, — сказала Энджи, — теперь припоминаю.
Бармен обернулся и посмотрел на нас сверху вниз.
— Чего? — сказал он.
— Пинту вашего самого лучшего эля, — ответил я.
— Две, — поправила Энджи.
— Отлично, — сказал бармен. — Но в таком случае вы заткнетесь до конца серии. Не все же посмотрели.
После «Острова Гиллигана» переключили на другую программу и стали смотреть «Врагов общества», фильм, построенный по документальным материалам, роли уголовников в нем играли актеры, но до того слабо, что по сравнению с ними Ван Дамм или Сигал казались великими Оливье и Гилгудом. Главный герой этой серии сначала домогался, а потом расчленил собственных детей в Монтане, в Северной Дакоте застрелил патрульного полицейского и вообще, кажется, только тем и занимался, что сильно портил жизнь всякому, с кем ему доводилось сталкиваться.
— Меня спросили бы, — сказал Большой Дейв Стрэнд, обращаясь к нам с Энджи, как раз когда на экране мелькнуло лицо этого уголовника, — вот с кем вам надо говорить. А не моих людей тревожить.
Большой Дейв Стрэнд был владелец и главный бармен «Филмо Тэп». Прозвище Большой он носил не зря: при росте метр девяносто два он был чудовищно необъятен и вширь. На лице буйно росли борода и усы, на бицепсах красовались темно-зеленые тюремные татуировки: на левом был изображен револьвер и под ним слова «НА ХРЕН», на правом — пуля, попадающая в череп с подписью «ТЫ».
В церкви я этого красавца не видел ни разу.
— Знал я на зоне ребят вроде этого, — сказал Большой Дейв и налил себе из крана еще пинту пива «Пил». — Уроды. Изолируют их от людей, понимают, что бы мы им сделали. Понимают. — Он перелил в себя полкружки, посмотрел на экран телевизора и рыгнул.
В баре почему-то запахло кислым молоком. И потом. И пивом. И попкорном со сливочным маслом, корзиночки с которым были расставлены по стойке бара напротив каждого четвертого стула. Пол был покрыт резиновым настилом. Судя по его состоянию, последний раз шланг — а Большой Дейв держал его за стойкой — пускали в дело несколько дней назад. Посетители втоптали в резину окурки сигарет и попкорн, и я почти не сомневался, что причиной едва заметного шевеления в полутьме под одним столиком были мыши, они, кажется, грызли что-то возле плинтуса.
Мы опросили четверых мужчин, сидевших у бара, но сказать о Хелен Маккриди они почти ничего не смогли. Все были старше ее, самый младший в свои примерно тридцать пять выглядел лет на десять старше. Все они осмотрели Энджи с головы до ног, будто ее голышом вывесили в витрине мясной лавки, особой враждебности не проявляли, но и помочь не стремились. Все они знали Хелен, но никаких чувств к ней не испытывали. Все они знали об исчезновении дочки Хелен, но и в связи с этим тоже никаких чувств не испытывали. Один из них, Лени, жалкая развалина с красными прожилками на желтушной коже, сказал:
— Ну, пропал ребенок, так что? Найдется. Они всегда находятся.
— У вас когда-нибудь дети терялись? — спросила Энджи.
Ленни кивнул.
— Сами находились.
— А сейчас они где? — спросил я.
— Один в тюрьме, другой на Аляске или еще где. — Рядом с ним клевал носом бледный худющий парень. Ленни ударил его по плечу: — Это мой младший.
Сын Ленни поднял голову, обнаружив по боевому черному синяку под каждым глазом.
— Е… в рот! — возмутился он и уронил голову на сложенные на стойке руки.
— Проходили уже это с полицией, — сказал нам Большой Дейв. — Уж все им рассказали: да, Хелен сюда захаживает. Нет, ребенка с собой не приводит. Да, пиво любит. Нет, дочку, чтобы заплатить по долгам за наркотики, продать не пыталась. — Он посмотрел на нас с прищуром. — По крайней мере, никому из здесь присутствующих.
К бару подошел один из игравших на бильярде. Это был худощавый парень с бритой головой, дешевыми тюремными наколками на руках, выполненными без того внимания к деталям и эстетического вкуса, как татуировки у Большого Дейва. Бритоголовый привалился к стойке между мной и Энджи, хотя справа от нас места было предостаточно, заказал у Дейва еще две порции пива и уставился на грудь Энджи.
— Что-то беспокоит? — спросила она.
— Ничего, — ответил парень. — Ничего не беспокоит.
— Он вообще спокойный, — сказал я.
Парень, будто громом пораженный, продолжал остановившимся взглядом пожирать грудь Энджи.
Дейв принес пиво, и парень принял кружки.
— Эти двое о Хелен спрашивают, — сказал Дейв.
— Да ну! — Голос парня звучал еле слышно, были основания сомневаться, прощупывается ли у него вообще пульс. Забирая кружки со стойки, он пронес их между нашими головами и задел бы их, если бы мы не отодвинулись. Тогда он наклонил кружку в левой руке так, что пиво пролилось мне на ботинок.
Я посмотрел на ботинок, потом ему в глаза. Его дыхание пахло, как носок бегуна. Он ждал моей реакции. Не дождавшись, парень посмотрел на кружки, которые по-прежнему держал на весу, и стиснул ручки. Перевел взгляд на меня: остановившиеся глаза — как черные дыры.
— Меня ничего не беспокоит, — сказал он. — Тебя — может быть.
Я чуть изменил позу, чтобы можно было смело опереться на лежащую на стойке руку, если придется резко уклониться, и стал ждать следующего хода, мысли о котором, как раковые клетки, проплывали в бритой голове парня.
Он снова посмотрел на свои руки, державшие кружки.
— Тебя — может быть, — громко повторил он и пошел от стойки к бильярдному столу.
Мы проводили взглядом бритую голову. Он передал кружку приятелю и что-то сказал ему, указывая рукой в нашу сторону.
— Хелен серьезно подсела на наркотики? — спросила Энджи Большого Дейва.
— Откуда мне знать, вашу мать? — возмутился он. — Вы на что намекаете?
— Дейв, — сказал я.
— Большой Дейв, — поправил он.
— Большой Дейв, — сказал я. — Может, ты их килограммами под стойкой держишь, мне безразлично. Может, продаешь Хелен Маккриди хоть каждый день, мне все равно. Мы хотим знать, настолько ли она подсела, чтобы залезть в долги.
Он выдерживал мой взгляд примерно полминуты, достаточно, чтобы я понял, как он крут, отвернулся к телевизору и стал смотреть телевизионную передачу.
— Большой Дейв, — сказала Энджи.
Он повернул к ней свою бычью голову.
— Хелен — наркоманка?
— Знаешь, — ответил Большой Дейв, — ты — горячая штучка. Захочешь попробовать разок-другой с настоящим мужчиной, звони.
— А что, были желающие попробовать? — вскинула бровь Энджи.
Большой Дейв отвернулся к телевизору.
Мы с Энджи переглянулись. Она пожала плечами. Я пожал плечами. Такими людьми, как Хелен и ее друзья, страдающими от недостатка внимания, по-видимому, можно было заполнить палату в психиатрической больнице.
— Не было у нее больших долгов, — сказал вдруг Большой Дейв. — Ну, должна она мне, может, баксов шестьдесят. Если б задолжала кому другому за… гостинцы, я б об этом знал.
— Эй, Большой Дейв! — позвал его один из сидевших на углу стойки. — Спроси, она не отсасывает?
Большой Дейв вытянул к ним руки и пожал плечами:
— Сам спроси.
— Эй, детка! — позвал один из компании. — Эй!
— А как насчет мужчин? — Энджи не сводила глаз с Дейва. Она говорила спокойно, как будто все, что тут происходило, не имело к ней ровно никакого отношения. — Мог кто-нибудь из ее бывших дружков держать на нее зуб?
— Эй, милашка! — не унимался один из компании. — Посмотри на меня! Сюда посмотри. Ну же!
Большой Дейв усмехнулся и отвернулся от четверых посетителей долить себе пива.
— Есть цыпы, от которых голову теряют, а есть такие, за которых дерутся. — Он улыбнулся Энджи, держа у губ кружку. — Ты, например.
— А Хелен? — спросил я.
Большой Дейв улыбнулся мне, вероятно решив, что его заигрывания с Энджи действуют мне на нервы, посмотрел на четверых мужчин у стойки и подмигнул.
— А Хелен? — повторил я.
— Вы ее видели. Внешность нормальная. Вполне сносная, на мой вкус. Но взглянешь на нее разок, и сразу видно, что в койке она недорогого стоит. — Он навалился на стойку перед Энджи. — Ну а ты, держу пари, трахаешься так, что от трения дым идет, верно, крошка?
Она покачала головой и едва улыбнулась.
Все четверо за стойкой оживились и наблюдали за нами с явным интересом.
Сын Ленни слез со стула и пошел к выходу.
Энджи, опустив взгляд на стойку перед собой, водила пальцем по бумажному кружку, на котором расплылись пятна пива с донышка кружки.
— Не отворачивайся, когда с тобой разговаривают, — сказал Большой Дейв. Голос его сейчас звучал хрипло из-за собравшейся в горле мокроты.
Энджи подняла голову и посмотрела на него.
— Так-то лучше, — сказал Большой Дейв и придвинулся к ней. Его левая рука соскользнула со стойки и стала что-то под ней нащупывать.
Тут в баре что-то громко лязгнуло — сын Ленни запер входную дверь на засов.
Так вот, значит, как это происходит. Женщина, умная, гордая, красивая, приходит в подобное заведение, и собравшиеся здесь мужчины вдруг видят то, чего им так не хватает и чего без насилия у них никогда не будет. Вдруг приходит осознание пороков, приведших их в эту клоаку. Ненависть, зависть и сожаление одновременно кипят в их недоразвитых душах. И хочется сделать так, чтобы женщина пожалела, горько пожалела о своем уме, красоте и особенно о гордости. Хочется выместить на ней ненависть к миру за неудачно сложившуюся жизнь, прижать ее к стойке, насытиться вдосталь, до пресыщения, до блевотины.
В застекленном окошке автомата, продающего сигареты, я видел свое отражение. От бильярдного стола ко мне сзади подходили двое с киями в руках, впереди шел бритоголовый.
— Хелен Маккриди, — проговорил Большой Дейв, не спуская глаз с Энджи, — ничтожество. Неудачница. И дочка ее такая же вырастет. Что бы там ни случилось с ребенком, ей же лучше. Но вот что мне не нравится, так это когда посетители моего бара намекают, будто я наркодилер, и вообще ведут себя так, будто я им в подметки не гожусь.
Сын Ленни прислонился к двери и скрестил руки на груди.
— Дейв, — сказал я.
— Большой Дейв, — поправил он, скрипнув зубами и не сводя глаз с Энджи.
— Дейв, — сказал я, — хорош вые… ваться.
— Дейв, не дури, — сказала Энджи дрогнувшим голосом. — Не дури.
— Посмотри на меня, Дейв, — сказал я.
Он взглянул в мою сторону, не потому что послушался, а скорее чтобы понять, скоро ли подойдут ко мне игравшие на бильярде. Увидев у меня за поясом кольт «коммандер» 45-го калибра, Дейв замер.
Я переложил кольт, когда сын Ленни пошел запирать дверь. Дейв посмотрел мне в лицо и сразу сообразил, в чем разница между человеком, выставляющим оружие напоказ, и держащим его наготове, как я, на всякий случай.
— Еще шаг, — сказал я, — и здесь будет очень горячо.
Дейв, глядя на них мне за спину, качнул головой.
— Вели этой заднице отойти от двери, — сказала Энджи.
— Рей, — позвал Большой Дейв, — сядь.
— Почему? — возмутился Рей. — Какого хрена-то? Разве у нас тут не свободная страна и прочее дерьмо?!
Я слегка постучал указательным пальцем по рукоятке пистолета.
— Рей, — сказал Большой Дейв, не отводя глаз теперь от меня, — отойди от двери, а не то я твоей башкой ее прошибу на хрен.
— Ладно, — сказал Рей. — Ладно-ладно. Черт побери, Большой Дейв. Я хочу сказать, ну не хрена себе! — Рей покачал головой, отпер дверь, но, вместо того чтобы вернуться на место, выскочил из бара.
— Да наш Рей просто оратор! — заметил я.
— Пошли, — сказала Энджи.
— Пошли, — согласился я, оттолкнул ногой стул и пошел к двери. Двое игравших на бильярде оказались справа от меня. Я взглянул на того, кто пролил пиво мне на ботинок. Он держал кий двумя руками тонким концом вниз, положив толстый себе на плечо. Он был не настолько глуп, чтобы рискнуть и подойти поближе, но отойти подальше ума не хватило.
— Ну, — сказал я ему, — теперь тебя точно что-то беспокоит.
Он посмотрел на кий и на подтеки пота, темневшие на нем ниже ладоней.
— Брось кий, — сказал я.
Он оценил расстояние между нами. Подумал о рукоятке пистолета 45-го калибра и о моей правой руке в сантиметре от нее. Взглянул мне в лицо. Наклонился и положил кий к моим ногам. Сделал шаг назад. В этот момент со стуком упал на пол кий его приятеля.
Я сделал пять шагов к выходу, остановился и взглянул на Большого Дейва:
— Что?
— Мм? — не понял Дейв, следивший за моими руками.
— Мне показалось, ты что-то сказал.
— Ничего не говорил.
— Мне показалось, ты сказал, что, кажется, сообщил нам не все, что мог, о Хелен Маккриди.
— Не говорил, — сказал Большой Дейв и поднял руки вверх. — Ничего я не говорил.
— Энджи, — сказал я, — как думаешь, Большой Дейв нам все сказал?
Она остановилась у двери и прислонилась к притолоке, небрежно свесив левую руку с пистолетом 38-го калибра.
— Вряд ли… — начала Энджи.
— Видишь, Дейв, нам кажется, ты что-то скрываешь. — Я пожал плечами. — Такое у нас сложилось мнение.
— Я вам все сказал. А теперь, по-моему, вам бы…
— …зайти еще разок вечерком после закрытия? — закончил за него я. — Отличная мысль, ты все правильно понял. Так мы зайдем.
Большой Дейв затряс головой:
— Нет, нет.
— Скажем, часика в два или в начале третьего? — Я кивнул. — До встречи.
Я подошел к троице у стойки. Никто не поднял глаз. Все уставились в свои кружки с пивом.
— Она была не у подружки, не у Дотти, — сказал вдруг Дейв.
Мы с Энджи обернулись. Дейв стоял за стойкой над раковиной, направив себе в лицо струю из надетого на кран шланга.
— Руки на стойку, Дейв! — сказала Энджи.
Он выпрямился, поднял голову, заморгал — капли со лба и бровей попадали ему в глаза — и положил ладони на стойку бара.
— Хелен, — сказал он, — не ходила к Дотти. Она здесь была.
— С кем?
— С Дотти. И с сыном Ленни, Реем.
Ленни поднял голову, склоненную над кружкой с пивом, и сказал:
— Пасть заткни, твою мать, Дейв.
— Это тот подонок, что дверь запирал? — спросила Энджи. — Он — Рей?
Большой Дейв кивнул.
— И что они тут делали?
— Ни слова больше! — сказал Ленни.
Большой Дейв бросил на него отчаянный взгляд, потом взглянул на нас.
— Просто пили. Во-первых, Хелен понимала, что оставлять ребенка одного нехорошо. Если б журналисты и полиция узнали, что на самом деле она была не по соседству, а в баре в десяти кварталах от дома, это бы выглядело совсем некрасиво.
— Какие у них отношения с Реем?
— Трахаются время от времени. — Дейв пожал плечами.
— Фамилия Рея?
— Дэвид! — не выдержал Ленни. — Дэвид, заткни…
— Ликански. Живет в Харвесте. — Дейв судорожно втянул в себя воздух.
— Ну ты и дерьмо! — презрительно бросил Ленни. — Дерьмо, и дерьмом будешь, и твои умственно отсталые потомки, твою мать, и все, к чему прикоснешься, — тоже. Дерьмо.
— Ленни, — предостерегающе сказал я.
Он стоял ко мне спиной и не оборачивался.
— Если думаешь, расколюсь сейчас перед тобой, ты, твою мать, ангельской пылью[7] ширанулся. Может, я и смотрел в свою кружку, но ведь у тебя пушка, и у твоей девки тоже. И что, твою мать? Стреляй давай или вали отсюда.
С улицы донесся приближающийся вой полицейской сирены.
Ленни повернул голову, и его лицо расплылось в улыбке.
— Похоже, за вами приехали, а? — Он презрительно рассмеялся, широко разевая почти беззубый, как красная болячка, рот.
Сирена выла совсем близко. По грунтовке подъезжала патрульная машина. Ленни махнул мне рукой:
— Ну пока. Можешь закурить и оправиться.
Он снова сардонически расхохотался, смех его больше походил на кашель, исходящий из разваливающихся легких. Через несколько секунд к нему присоединились его дружки, сначала нерешительно, потом смелее. Хлопнули дверцы патрульной машины.
Мы вышли. Нам вслед несся истеричный хохот.
Черный «форд-таурус» остановился всего в полуметре от входа в бар. Младший из двоих полицейских, крупный мужчина, сидевший за рулем, с детской улыбкой высунулся из окна и выключил сирену.
Его напарник тоже с улыбкой, но более осмысленной уселся, скрестив ноги, на капот и, изображая вой сирены, завел:
— У-у-у. — Поднял указательный палец и покрутил кистью. — У-у-у.
— Я уже испугался, — сказал я.
— Правда? — Он деловито хлопнул в ладоши и стал сползать с капота, пока не уперся ногами в бампер.
— Вы, должно быть, Пат Кензи. — Он выбросил вперед руку, которая остановилась на уровне моей груди.
— Патрик, — сказал я и пожал ее.
Он дважды энергично сдавил мою.
— Детектив сержант Ник Рафтопулос. Зовите меня Пул. Меня все так. — Его умное озорное лицо обратилось к Энджи. — А вы, должно быть, Энджела.
— Энджи. — Она пожала ему руку.
— Рад познакомиться, Энджи. Вам уже говорили, у вас глаза отцовские?
Энджи потерла бровь.
— Вы знали отца?
Пул положил ладони на колени.
— Немного. Он играл в команде противника. Мне он нравился, мисс. Классно играл. Сказать по правде, очень жаль, что он… ушел, если можно так сказать. Редкий был человек.
Энджи мягко улыбнулась:
— Спасибо за добрые слова.
Дверь бара за ними открылась, снова повеяло застоявшимся запахом виски.
Полицейский, сидевший в машине, посмотрел на того, кто вышел из бара и сейчас стоял у нас за спиной:
— Назад, шестерка. Ордер на тебя уже заготовлен, и я знаю, у кого он.
Дверь бара закрылась, и запах виски исчез.
Пул указал большим пальцем себе за спину.
— Этот положительный молодой человек в машине — мой напарник, детектив Реми Бруссард.
Мы кивнули Бруссарду, он ответил тем же. При ближайшем рассмотрении Реми оказался не таким уж и молодым. Ему было года сорок три — сорок четыре, хотя, едва выйдя из бара, из-за невинного, как у Тома Сойера, выражения лица и этой мальчишеской ухмылки я принял его за своего ровесника. Но «гусиные лапки» возле глаз, морщины, избороздившие запавшие щеки, и оловянная проседь в курчавых, почти белокурых волосах, если присмотреться, заставляли добавить ему лишний десяток. Он явно был завсегдатаем тренажерного зала. Мускульную массу скрадывал двубортный итальянский оливкового цвета пиджак, под которым была сорочка в тонкую полоску с верхней расстегнутой пуговицей и слегка распущенным голубым с золотом галстуком от Билла Бласса.
Модник, решил я, видя, как он стирает пыль с носка левого ботинка от Флоршейма. Небось у каждой витрины на себя любуется. Он рассматривал нас, опираясь на открытую дверцу машины, судя по взгляду, это был человек умный и расчетливый. Витрины витринами, но взгляд цепкий, такой ничего не упустит.
— Наш дорогой лейтенант Джек-одержимый-Дойл велел поддерживать с вами связь, — сказал Пул. — Вот мы и приехали.
— Вот вы и приехали, — повторил я.
— Едем по проспекту в сторону вашей конторы, — продолжил он, — видим, выбегает из проезда Рей Ликански. Его папаша был известный стукачок, мы с ним старые знакомые. Детективу Бруссарду что Рей, что «Шуга Рей»[8] — все едино. Ну, я говорю, мол, останови колесницу, Реми. Это торопыжка Рей Ликански собственной персоной, и он явно чем-то расстроен. — Пул улыбнулся и забарабанил пальцами по коленям. — Рей верещал, будто бы в этом почтенном заведении кто-то пушкой размахивает. — Он лукаво приподнял бровь.
— Пушкой? — удивился я. — В мужском клубе вроде «Филмо Тэп»? Помилуйте, да я бы никогда!
Бруссард стоял, сложив руки на дверце машины и навалившись на нее грудью. При этих словах он пожал плечами, как бы говоря «Ну, что вы хотите, это — мой напарник!».
Пул, желая привлечь мое внимание, забарабанил по капоту. На его морщинистом лице эльфа появилась улыбка. Ему, вероятно, было чуть меньше шестидесяти. Коренастый, коротко стриженные пепельные волосы. Он поскреб щетину на голове и прищурился, глядя на дома вдали, освещенные ярким послеполуденным солнцем.
— Кольт «коммандер», который я вижу у вас за ремнем справа, мистер Кензи, — не вышеупомянутая ли пушка?
— Все может быть. — Я пожал плечами.
Пул окинул взглядом фасад бара.
— А как там наш Большой Дейв Стрэнд? Цел и невредим?
— Во время последней проверки был цел, — кивнул я.
— Может, арестовать вас за нападение? — Бруссард вытащил из упаковки палочку жевательной резинки «ригли» и сунул себе в рот.
— Это если он подаст в суд.
— Думаете, не подаст? — сказал Пул.
— Почти уверены, что нет, — сказала Энджи.
Пул взглянул на нас, поднял брови, посмотрел на напарника. Бруссард пожал плечами, и оба широко улыбнулись.
— Замечательно! — сказал Пул.
— Неужели Большой Дейв не попробовал вас очаровать? — спросил Бруссард.
— Пробовал, совсем почти очаровал, — буркнула Энджи.
Бруссард пожевал жвачку, выпрямился, не отрывая глаз от Энджи, будто оценивая ее возможности.
— А теперь серьезно, — сказал Пул, хотя, судя по голосу, можно было подумать, что он по-прежнему шутит. — Кто-нибудь из вас стрелял в баре?
— Нет, — сказал я.
Пул выставил руку и щелкнул пальцами.
Я вынул из-за ремня пистолет и отдал ему.
Он вынул из рукоятки обойму, отодвинул затвор, заглянул в патронник, убедился, что там ничего нет, понюхал отверстие ствола, удовлетворенно кивнул и вложил обойму мне в левую руку, а пистолет в правую.
Я убрал оружие в кобуру, а обойму сунул в карман пиджака.
— А разрешения у вас есть? — спросил Бруссард.
— В бумажниках, непросроченные, — сказала Энджи.
Пул и Бруссард ухмыльнулись, глядя друг на друга, потом уставились на нас. Мы достали разрешения и положили на капот. Пул мельком взглянул на них и вернул.
— Постоянных клиентов опрашивать будем, Пул?
Пул посмотрел на Бруссарда:
— Есть хочется.
— Я бы тоже поел, — кивнул тот.
Пул вопросительно взглянул на нас:
— Проголодались?
— Да не особенно.
— Ничего. Там, куда мы собрались, — сказал Пул, аккуратно беря меня под локоть, — жратва все равно омерзительная. Зато вода изумительная. Лучшая во всей округе. Прямо из-под крана.
«У Виктории» в Роксбери кормили просто превосходно. Ник Рафтопулос заказал свиные отбивные, Реми Бруссард — клубный сэндвич. Мы попросили кофе.
— Так вы ни к чему и не пришли? — спросила Энджи.
Пул обмакнул свинину в яблочный соус.
— По правде говоря, ни к чему.
Бруссард утер рот салфеткой.
— Нам не приходилось работать с делами, которые бы так долго оставались у всех на виду и при этом не закончились бы плохо.
— Думаете, Хелен не имеет отношения к делу? — спросил я.
— Сначала думали, имеет, — сказал Пул. — Была у меня гипотеза, что она продала ребенка или что наркодилер, которому она задолжала, похитил девочку.
— И что вас заставило отказаться от этой гипотезы?
Пул пожевал и подтолкнул локтем Бруссарда, прося ответить.
— Полиграф. Она прошла испытание. Кроме того, посмотрите на этого детектива, уплетающего свиные отбивные, посмотрите на меня. Нас нелегко обмануть, если мы работаем над кем-то вместе. Хелен врет, но, не поймите меня неправильно, не по поводу исчезновения дочери. Она действительно не знает, что случилось.
— А как насчет места, где она находилась в ночь исчезновения Аманды?
Сэндвич застыл в воздухе на полпути ко рту Реми.
— А что?
— Вы верите тому, что она рассказала журналистам? — спросила Энджи.
— А что, есть основания не верить? — спросил Пул и запустил вилку в яблочный соус.
— Большой Дейв рассказал совсем другую историю.
Пул откинулся на спинку стула и стряхнул с рук крошки.
— И какую же?
— Так вы поверили тому, что рассказала Хелен, или не поверили? — спросила Энджи.
— Поверили, но не совсем, — сказал Бруссард. — Полиграф показал, что она была с Дотти, но, возможно, не в ее квартире. Проверяли несколько раз, результат один и тот же.
— А где она была? — спросил Пул.
— По словам Дейва, в «Филмо».
Они переглянулись и снова посмотрели на нас.
— Итак, — медленно произнес Бруссард, — она нам лапши навешала.
— Не хотела испортить себе пятнадцать секунд, — сказал Пул.
— Что за пятнадцать секунд? — не понял я.
— В лучах славы, — сказал Пул. — Раньше это время измеряли минутами, теперь секундами. — Он вздохнул. — Играет на телевидении роль безутешной матери в красивом голубом платье. Помните бразильянку в Олстоне, у которой мальчик пропал восемь месяцев назад?
— Так и не нашли, — кивнула Энджи.
— Верно. Штука в том, что та мать была темнокожая, одевалась плохо, цепенела перед камерами. Через некоторое время публике стало решительно наплевать на ее пропавшего сына, так мамаша всех достала.
— Но Хелен Маккриди, — сказал Бруссард, — белая. Ухоженная, хорошо смотрится на экране. Может, и не звезда первой величины, но женщина миловидная.
— Ничего подобного, — сказала Энджи.
— Живьем? — Бруссард покачал головой. — Живьем она миловидна, как лобковая вошь. Но на экране, в интервью на пятнадцать секунд… Ее охотно снимают, и публика ее любит. Она оставила ребенка одного почти на четыре часа, это вызывает определенное возмущение, но люди говорят: «Проявите же снисходительность, каждый может совершить ошибку».
— Ее, наверное, никогда в жизни так не любили, — сказал Пул. — Как только Аманда найдется или, скажем, произойдет еще что-нибудь, что вытеснит это дело с первых полос газет, Хелен снова станет прежней, такой, какой была. Но сейчас, говорю вам, она упивается своими пятнадцатью секундами славы.
— Думаете, это и все, ради чего она водит всех за нос с тем, где находилась в ту ночь?
— Возможно, — ответил Бруссард. Он утер рот салфеткой и отодвинул тарелку. — Не поймите нас неправильно. Через несколько минут мы будем у ее брата, мы ей за эту ложь вклеим — мало не покажется. А если и еще в чем-то наврала, все выясним. — Он резко вытянул руку в нашу сторону. — Спасибо вам.
— Сколько вы занимаетесь этим делом? — спросил Пул.
Энджи взглянула на часы.
— Начали вчера поздно вечером.
— И сразу заметили наше упущение? — ухмыльнулся Пул. — Вы, видно, действительно такие способные, как о вас говорят.
Энджи хлопнула ресницами. Бруссард улыбнулся:
— Иногда встречаемся с Оскаром Ли. Когда-то давным-давно мы охраняли порядок в жилых кварталах. После того как Джерри Глинна уложили на той площадке пару лет назад, я спросил его о вас. Знаете, что он сказал?
Я пожал плечами:
— Если я правильно представляю себе Оскара, гадость, наверное, какую-нибудь?
Бруссард кивнул:
— Сказал, что оба вы раздолбаи почти во всех отношениях.
— Похоже на него, — заметила Энджи.
— Еще он сказал, что, если вам взбредет в голову раскрыть преступление, вам сам Господь Бог не помешает.
— Ну, Оскар! — восхитился я. — Красавец!
— Итак, вы сейчас занимаетесь тем же делом, что и мы. — Пул положил на тарелку аккуратно сложенную салфетку.
— Вас это смущает? — спросила Энджи.
Пул и Бруссард переглянулись. Бруссард пожал плечами.
— Тогда, — сказал он, — надо соблюдать определенные правила.
— Например?
— Например… — Пул достал пачку «Кэмела», снял с нее целлофан, развернул фольгу и вытащил сигарету без фильтра. Глубоко вдохнул, поднес ее к носу, закинул голову и закрыл глаза. Потом наклонился и стал тыкать незажженной сигаретой в пепельницу, как бы гася ее, пока она не разломилась пополам. После этого убрал пачку в карман.
— Прошу прощения. Я бросил.
— Когда? — заинтересовалась Энджи.
— Два года назад. Но мне по-прежнему нужен этот ритуал. — Он улыбнулся. — Ритуалы надо соблюдать.
Энджи запустила руку в сумочку:
— Я покурю, не возражаете?
— Да ради бога!
Он проследил, как Энджи зажигала сигарету. Мы встретились взглядами, и мне показалось, что он читает мои мысли.
— Основные правила, — сказал он. — Нельзя допускать утечки в СМИ. Вы дружите с Ричи Колганом из «Триб».
Я кивнул.
— Колган полиции — не друг, — сказал Бруссард.
— А он и не обязан быть другом. Он писать обязан. Работа у него такая.
— Не спорю, — сказал Пул. — Но нельзя, чтобы журналисты узнали об этом расследовании что-то такое, чего мы не хотели бы разглашать. Согласны?
Я взглянул на Энджи. Она рассматривала Пула через сигаретный дым. Наконец она кивнула:
— Согласны.
— Чудесно! — сказал Пул с шотландским акцентом.
— Где вы раздобыли такого? — спросила Энджи Бруссарда.
— Работая его напарником, получаю лишнюю сотню в неделю. За риск.
Пул наклонился, принюхиваясь к струйке дыма от сигареты Энджи.
— Во-вторых, — продолжал он, — вы не из нашей конторы. Прекрасно. Но мы не можем позволить вам участвовать в этом деле, если вы будете добывать показания, демонстрируя огнестрельное оружие, как это было с мистером Большим Дейвом Стрэндом.
— Большой Дейв Стрэнд собирался меня изнасиловать, сержант Рафтопулос.
— Понимаю.
— Нет, не понимаете. Вы понятия не имеете, что это такое.
Пул кивнул:
— Прошу прощения. Как бы то ни было, сегодняшнее происшествие в «Филмо» — исключение. Это не должно повториться. Согласны?
— Согласны, — сказала Энджи.
— Что ж, ловлю на слове. Как вам наши условия?
— Если мы согласимся не давать утечек журналистам, что, уж вы мне поверьте, подпортит наши отношения с Ричи Колганом, вам придется держать нас в курсе. Будете вести себя с нами как со СМИ, позвоним Колгану.
Бруссард кивнул:
— Условие справедливое. Как думаешь, Пул?
Пул пожал плечами, не сводя с меня глаз.
— Мне трудно поверить, — сказала Энджи, — что четырехлетний ребенок исчез из дому теплой ночью и никто этого не видел.
Бруссард крутил на пальце обручальное кольцо.
— Мне тоже.
— Итак, что мы имеем? — сказала Энджи. — Прошло три дня, у вас, должно быть, есть что-то, чего не было в газетах.
— У нас показания двенадцати человек, — сказал Бруссард, — начиная от «Я забрал девчонку и съел» и заканчивая «Я забрал девчонку и продал представителям униатской церкви». — Он печально улыбнулся. — Ни одно из этих показаний не проверено. Одни экстрасенсы говорят, что она в Коннектикуте, другие — в Калифорнии, третьи — в нашем же штате, но только в лесистой местности. Допрашивали Лайонела и Беатрис Маккриди, алиби у них железные. Наведались к бомжам. Обошли всех соседей, не только чтобы спросить, не заметили ли они чего-либо странного в тот вечер, но проверяли невзначай, нет ли в доме каких-нибудь следов девочки. Теперь знаем, кто нюхает кокаин, кто пьет, кто жену бьет, кто мужа, но никакой связи с исчезновением Аманды Маккриди не обнаружили.
— В общем, ноль, — подытожил я. — У вас ничего нет.
Бруссард медленно повернул голову и посмотрел на Пула. Тот смотрел на нас через стол, оттопырив языком нижнюю губу. Так прошло около минуты. Затем Пул открыл потертый дипломат, достал несколько глянцевых фотографий и передал нам через стол первую, черно-белую. На ней крупным планом был изображен человек лет шестидесяти. Кожа его лица так плотно прилегала к костям, что казалось, ее оттянули на затылок, собрали там в складку и закрепили металлической прищепкой. Тусклые глаза выпучивались из глазниц, крошечный рот едва был виден в тени изогнутого, как коготь, носа. Кожа на ввалившихся щеках была так сморщена, как будто этот человек беспрерывно сосал лимон. Лысый яйцеобразный череп прикрывала дюжина жидких седых прядей волос.
— Знаете его? — спросил Бруссард.
Мы отрицательно покачали головами.
— Зовут Леон Третт. Сидел за педофилию. Попадался трижды. Первый раз присудили принудительное лечение в психушке, потом два тюремных срока. Последний отсидел примерно два с половиной года назад, вышел из Бриджуотерской тюрьмы и исчез.
Пул передал вторую фотографию, на этот раз цветную, на которой была изображена в полный рост гигантских размеров женщина, косая сажень в плечах, с косматой гривой, как у святого Бернарда, каштановых волос.
— Боже, кто это? — ужаснулась Энджи.
— Роберта Третт, — сказал Пул. — Жена Леона. Снимок сделан десять лет назад, так что она, возможно, немного изменилась, но не думаю, чтобы в объеме. У Роберты дар, под ее рукой начинает колоситься даже засохший пень. Зарабатывает на жизнь и поддерживает своего дорогого Леона, выращивая цветы на продажу. Два с половиной года назад бросила работу, съехала со своей квартиры в Рослиндейле, и с тех пор их обоих никто не видел.
— Но… — начала было Энджи.
Пул передал нам через стол последнюю фотографию. Смуглый человечек со странно перекошенным, морщинистым лицом, кося правым глазом, вглядывался в объектив, всем своим видом выражая бессильный гнев и замешательство.
— Корвин Орл, — сказал Пул. — Тоже педофил. Из Бриджуотерской тюрьмы вышел неделю назад. Где сейчас — неизвестно.
— Но связан с Треттами? — спросил я.
Бруссард кивнул:
— Сидел с Леоном. Когда тот вышел на волю, соседом Орла по камере стал грабитель из Дорчестера, Бобби Минтон. Вручную выражал свое отношение к статье Леона, перевоспитывал. А в перерывах слушал его откровения. По словам Минтона, у Корвина была мечта: после освобождения поехать к Леону и его женушке и зажить с ними одной большой счастливой семьей. Приехать Корвин собирался не с пустыми руками. Тяжелый у него случай, по-моему. Как говорит Минтон, подарить он хотел вовсе не бутылку виски «Катти Сарк» Леону и розы Роберте. Подарком должен был стать ребенок. Третты любили, чтобы дети были маленькие. Не старше девяти.
— Этот Минтон вам сам позвонил? — спросила Энджи.
Пул кивнул.
— Как только услышал об исчезновении Аманды Маккриди. Он весьма красноречиво и убедительно просвещал Корвина об участи педофилов в Дорчестере. Объяснял, что он и десяти шагов не пройдет, как ему член отрежут и в рот засунут. Корвин Орл будто бы решил выбрать подарок для Треттов именно в Дорчестере, чтобы таким образом отомстить Минтону, по крайней мере, сам Минтон так считает.
— И где Корвин сейчас? — спросил я.
— Исчез. Установили наблюдение за домом его родителей в Маршфилде, но пока ничего. Из тюрьмы он уехал на такси в стриптиз-клуб в Стоутоне, там его в последний раз и видели.
— Телефонный звонок Бобби Минтона — это все, что связывает Орла и Треттов с Амандой? Других связей нет?
— Согласен, материала у нас маловато, — нехотя кивнул Бруссард. — Но у Орла кишка тонка похитить ребенка в незнакомом месте. Судя по досье, он на такое неспособен. Он заигрывал с детьми в летнем лагере, где работал семь лет назад. Никакого насилия, никакого насильственного удержания. Возможно, он просто прикидывался овечкой перед сокамерником.
— Ну а Третты? — спросила Энджи.
— Роберта вне подозрений. Единственное, за что она сидела, — пособничество после вооруженного ограбления винного магазина в Линне, дело было в конце семидесятых. Она отмотала год, и ее выпустили под надзор полиции. С тех пор ни разу не попадалась.
— А Леон?
— Леон. — Бруссард присвистнул. — С Леоном совсем плохо. Обвинялся двадцать раз, осужден трижды. Большинство дел закрывали, жертвы отказывались давать показания. Не знаю, известно ли вам, как обстоят дела с жертвами педофилов. Так же, как с крысами и мышами. Видите одну, рядом еще сотня. Поймали вы извращенца, пристававшего к ребенку, держу пари, рядом — еще тридцать, но с ними он не попался, если еще хоть что-то соображает. В общем, Леон, по нашим прикидкам, изнасиловал полсотни с лишним детей. Пока он жил в Рэндолфе, а потом в Холбруке, там бесследно пропадали дети. Федералы и местная полиция в их убийстве в первую очередь подозревали его. И вот еще что. Когда Леона взяли последний раз, люди из полицейского департамента Кингстона возле его дома обнаружили схрон с оружием.
— За это привлекли? — спросила Энджи.
Бруссард покачал головой.
— У него хватило ума устроить его на земле соседа. Полиция знала, что это тайник Леона, — у него в доме нашли «Дневник Тернера»,[9] целую стопку рекламных проспектов НАВНО,[10] мануалы, как обращаться с оружием, в общем, все, что полагается находить у таких типов, но доказать ничего не смогли. Улик не хватило. Он очень осторожен и умеет прятать следы.
— Да уж, — досадливо поморщилась Энджи.
Пул утешительно накрыл ее руку своей.
— Оставьте себе фотографии. Рассмотрите их хорошенько, вдруг вам попадется кто-нибудь из этой троицы. Не думаю, что они имеют отношение к делу — ничто не указывает на верность этой гипотезы, — но в нашей округе они сейчас самые известные педофилы.
Энджи улыбнулась, глядя на руку Пула:
— Хорошо.
Бруссард приподнял шелковый галстук и смахнул с него пылинку.
— Кто был с Хелен Маккриди в «Филмо» в субботу вечером?
— Дотти Мэхью, — ответила Энджи.
— И все?
Мы помедлили с ответом.
— Не забывайте, — сказал Бруссард, — играем в открытую.
— Рей Ликански, — сказал я.
Бруссард обернулся к Пулу:
— Расскажи мне побольше о нем, напарник.
— Подумать только, — прищелкнул языком Пул, — мы час назад могли взять этого мерзавца. Вот невезуха.
— Почему? — спросил я.
— Кощей Рей — профессиональный преступник. Научился от своего папочки. Он понимает, что мы будем его искать, поэтому скрылся, по крайней мере на время. А чтобы выбраться из Доджа, рассказал нам, что вы в «Филмо» размахиваете оружием. У Ликански есть родственники в Элигейни, Рем. Ты бы не…
— Позвоню в тамошнее отделение, — кивнул Бруссард. — Может, удастся проследить за его перемещениями.
Пул покачал головой:
— Он за пять лет ни разу не оступился. Никаких уклонений от встречи с полицейскими чиновниками, отмечался всегда вовремя. Он чист. — Пул постучал по столу указательным пальцем. — Ничего, всплывет рано или поздно. С дерьмом всегда так.
Подошла официантка. Пул расплатился, и мы все вышли на улицу. Вечерело.
— Так что же могло случиться с Амандой Маккриди? — спросила Энджи. — Допустим, мы бы поспорили о ее исчезновении, вы бы на что поставили?
Бруссард достал новую палочку жвачки, сунул в рот и стал неторопливо жевать. Пул изучал свое отражение в стекле дверцы пассажирского сиденья.
— Я бы сказал, — ответил наконец Пул, — когда четырехлетний ребенок восемьдесят с лишним часов находится неизвестно где, ничего хорошего быть не может.
— А вы, детектив Бруссард?
— Я бы сказал, что ее уже нет в живых, мисс Дженнаро. — Он обошел машину и открыл водительскую дверь. — Это жестокий мир, и дети в нем особенно уязвимы.
В парке Сэвин-Хил «Звезды» играли с «Иволгами», игра не клеилась. Защитник «Звезд» направил мяч по линии между «домом» и третьей базой, стоявший на ней игрок «Иволг» к мячу не успел, поскольку был очень занят, вытягивал колосок из стебля травинки. Бегущий «Звезд» поднял мяч и побежал с ним к «дому», но, чуть-чуть не добежав, кинул его в направлении подающего, тот мяч поднял и бросил в сторону первой базы. Стоявший на ней игрок мяч поймал, но вместо того, чтобы осалить бегущего, повернулся и бросил мяч за пределы поля. Центральный и правый полевые игроки бросились к мячу, левый полевой сделал ручкой своей маме.
Раз в неделю группа Лиги тибола[11] Северного Дорчестера для детей от четырех до шести лет играла в парке Сэвин-Хилл на меньшем из двух полей. От юго-восточной автострады его отделяла изгородь из сетки-рабицы длиной примерно с полсотни метров. Из парка открывался вид на залив с прославленным пляжем Малибу, здесь «парковался» местный яхт-клуб. Я ни разу не видел, чтобы хоть одна яхта бросила поблизости якорь, впрочем, может быть, я смотрю на море в неподходящее время.
Когда мне было между четырьмя и шестью, мы играли в бейсбол, тибол тогда еще не придумали. Были у нас и тренеры, и родители, подбадривали и подгоняли нас с трибун. Некоторые из нас уже умели отбивать мяч так, чтобы он лишь чуть-чуть откатывался к «дому», и избегать осаливания игроком со второй базы. Наши отцы проверяли наши умения силовыми и кручеными подачами с горки. Мы играли матчи по семь инингов, состязались с командами из других приходов, и к моменту вступления в младшую лигу, когда нам было лет по семь-восемь, с командами приходов Святого Барта, Святого Уильяма и Святого Антония в Северном Дорчестере соперники играть с нами побаивались, и не без оснований.
Глядя на три десятка неуклюжих и неловких ребятишек — у одного малыша бейсболка съехала на глаза, глазастенькая девчушка засмотрелась на заходящее солнце, — я думал, что нас учили не в пример достойней и лучше, нас готовили к суровым требованиям взрослой игры, хотя эта детвора, похоже, получала куда больше удовольствия, чем в свое время мы.
Каждую позицию занимали в порядке очереди. Когда все игроки попадали битой по мячу (а они все попадали, при нас никто не промахнулся), команда отдавала противнику биты и забирала у него перчатки. Счет никто не вел. Если какой-то ребенок оказывался достаточно проворным, чтобы и поймать мяч, и осалить бегущего, тренер хвалил и поздравлял обоих, правда, тот, кто был бегущим, оставался на базе. Находились и тут родители, истошно кричавшие: «Подбери мяч, Эндриа!» или «Беги, Эдди, беги! Да нет, не туда! Вон туда!». Но большей частью родители и тренеры аплодировали каждому удару, при котором мяч отлетал больше чем на метр; каждому ребенку, поймавшему мяч и бросившему его куда-нибудь, где почтовый индекс тот же, что и у парка; каждому успешному пробегу от первой базы до третьей, пусть даже игрок пробежал по горке подающего.
В этой лиге состояла и дочь Хелен. Записали ее сюда и возили на занятия Лайонел и Беатрис. Аманда Маккриди играла в команде «Иволг» на второй базе, и, по словам тренера Сони Гарабедьян, неплохо ловила мяч, если не слишком увлекалась разглядыванием вышивки на своей маечке.
— Так несколько мячей и прозевала. — Соня улыбчиво покачала головой. — Она стояла вот там, где сейчас Аарон, оттянет рубашку, птичку созерцает, иногда заговаривала с нею. Если мяч летел в ее сторону… ну что ж, приходилось ему подождать, пока Аманда налюбуется.
Пухлый мальчишка, стоявший у Т-образной подставки, довольно крупный для своего возраста, послал мяч далеко за границу левого поля, и все бросились за ним. Обогнув вторую базу, мальчишка побежал за остальными, там ребятня, отнимая друг у друга мяч, уже вовсю каталась по траве.
— Аманда так бы никогда не поступила, — сказала Соня.
— Хоум-ран[12] не пробила бы?
— И это тоже. Видите, что за куча-мала? Если их не растащить, начнут играть в «Царя горы» и вообще забудут, зачем сюда пришли.
Растаскивать взялись двое крепких папаш. Соня показала нам на рыженькую девочку на третьей базе. В свои лет пять она была меньше остальных игроков, рубашка с эмблемой команды доходила ей до колен. Девочка равнодушно посмотрела на творившуюся кутерьму, села на корточки и стала ковырять камешком землю.
— Это Керри. Что бы ни случилось, она всегда сама по себе. Хоть слон приди на поле и все побегут играть с его хоботом, ей и в голову не придет присоединиться к остальным.
— Такая застенчивая? — спросил я.
— Отчасти застенчивая, — кивнула Соня. — Но помимо того, просто не реагирует на то, что у других детей вызывает вполне предсказуемую реакцию. Она не грустит, но и не веселится, и так всегда. Понимаете?
Керри отвлеклась на мгновение от своего занятия, подняла веснушчатое лицо, сощурилась от лучей заходящего солнца и снова стала рыть ямку.
— В этом отношении Аманда похожа на Керри. Вяло реагирует на непосредственные раздражители.
— Интроверт, — сказала Энджи.
— Отчасти, но не настолько, чтобы подозревать богатую внутреннюю жизнь. Не то чтобы она была заперта в своем мирке, просто вовне ее мало что интересует. — Соня, обернувшись, взглянула на меня, и было что-то грустное и суровое в складке ее губ и во взгляде.
— С Хелен вы уже встречались? — спросила она.
— Да.
— И что думаете?
Я пожал плечами.
— Только и можно что плечами пожать, да?
— Она приходила смотреть, как играет Аманда? — спросила Энджи.
— Один раз. Только один раз, и то пьяная. Пришла с Дотти Мэхью, та тоже была подшофе, вели себя очень шумно. Мне кажется, Аманде было стыдно за мать, она все спрашивала, когда игра закончится. — Соня покачала головой. — Дети в этом возрасте ощущают ход времени совсем не так, как взрослые. Различают только долго-недолго. В тот день игра, наверное, показалась Аманде нескончаемой.
К этому времени на поле вышли еще несколько родителей, тренеров и команда «Звезд» в полном составе. Несколько ребят все еще копошились в куче, хотя многие уже отделились от нее, разбились на небольшие группы, играли в салочки, бросались друг в друга перчатками или просто валялись по траве.
— Мисс Гарабедьян, вы не замечали здесь посторонних во время игры? — Энджи показала Соне фотографии Корвина Орла и Роберты Третт.
Соня взглянула на них, поморгала, пораженная габаритами Роберты, и отрицательно покачала головой.
— Видите того здоровяка? — Она указала на высокого, коротко стриженного коренастого мужчину лет сорока. — Это Мэт Хогланд, профессиональный культурист, несколько лет подряд побеждал в конкурсе на звание «мистер Массачусетс». Очень приятный человек. Обожает своих детей. В прошлом году у нас возле поля терся какой-то оборванец, наблюдал за игрой несколько минут, нам всем его взгляд очень не понравился. Мэт его… попросил уйти. Понятия не имею, что он этому чесоточному сказал, но тот просто побелел, сразу ушел, и больше его не видели. Может, такие… личности имеют свою сеть, обмениваются данными или что-то в этом роде. Не знаю. Но других незнакомых я здесь не видела. Вот только вы пришли.
Я потрогал себя за волосы.
— Как там моя чесотка?
Соня прыснула.
— Кое-кто из наших узнал вас, мистер Кензи. Мы помним, как вы спасли ребенка на игровой площадке. Мы все своих детей вам доверим, только скажите.
Энджи подтолкнула меня локтем:
— Герой ты наш.
— Отстань, — отмахнулся я.
Для восстановления порядка на поле потребовалось еще минут десять, и игра продолжилась.
Соня познакомила нас с некоторыми родителями. Хелен и Аманду знали немногие, и остаток матча мы провели, расспрашивая их. Помимо подтверждения сложившегося у нас мнения о Хелен Маккриди как о создании крайне эгоистичном, результатом этих разговоров стало более полное представление об Аманде.
Вопреки рассказам Хелен, пытавшейся представить дочку как приветливую, улыбчивую девчушку, складывалось впечатление, что Аманда была слишком вялая и тихая для четырехлетнего ребенка.
— Моя Джессика? — округлила глаза Фрэнсис Нигли. — От двух до пяти лет на стены налетала. А почемучка была просто невообразимая! Все спрашивала: «Мам, а почему животные не говорят, как мы? Откуда у меня пальцы на ногах? Почему одна вода горячая, а другая холодная?» Не унималась ни на минуту. Любая мать знает, каким невыносимым может быть четырехлетний ребенок. Ведь в четыре — ей ведь четыре? — человек удивляется миру каждую секунду.
— А Аманда? — спросила Энджи.
Фрэнсис прислонилась к спинке скамьи и огляделась по сторонам. Тени сгущались, поглощая детей на поле, отчего те, казалось, уменьшались в размерах.
— Мне случалось присматривать за Амандой. Не по своей инициативе. Бывало, Хелен забежит: «Нельзя ли оставить у вас на секундочку?» Потом приходит часов через шесть-семь. А что делать? Ведь не откажешь. — Она закурила. — Аманда тихая была, послушная. Где посадишь, там и сидит, глазеет на стены, на телевизор или еще на что-нибудь. Не интересовалась игрушками моих детей, кошку за хвост не тянула, ничего. Просто сидит, как неживая, даже не спросит, когда мама придет.
— Может, у нее отставание в развитии? — сказал я. — Аутизм или что-нибудь такое?
Фрэнсис покачала головой:
— Нет. Заговоришь с ней, все понимает, отвечает вполне разумно. Мне всегда казалось, что она просто не ожидает, что к ней обратятся с вопросом. Но такая ласковая, и говорит очень хорошо для своего возраста. Нет, она умная девочка. Просто чуть заторможенная.
— И это показалось вам странным, — уточнила Энджи.
Фрэнсис пожала плечами:
— Пожалуй, да. Мне кажется, она не привыкла, чтобы на нее обращали внимание. По-моему, это очень плохо.
Она отвернулась и стала смотреть на поле. Ее дочка подошла к «домашней» базе, неловко держа в руках биту и глядя перед собой на мяч, лежавший на Т-образной подставке.
— Стукни, детка, так, чтоб мяч из парка вылетел! — крикнула Фрэнсис. — У тебя получится.
Дочка оглянулась, посмотрела на мать, улыбнулась, помотала головой и швырнула биту на землю.
Мы зашли в «Эшмонт-гриль» поесть и выпить пива, и тут с Энджи случилось то, что я не могу назвать иначе, как запоздалой реакцией на посещение «Филмо Тэп».
Я заказал мясо с картошкой под соусом. Здесь это готовили так же, как моя мама, и официантки вели себя тоже как мама. Если посетитель оставлял что-то на тарелке, они спрашивали, выбрасывают ли еду голодающие дети в Китае. Я бы не удивился, если бы меня не выпустили из-за стола, пока не доем все до последней крошки. Энджи тогда пришлось бы ковыряться со своей курицей до следующей недели. Несмотря на свою миниатюрность, в том, что касается аппетита, она даст фору любому дальнобойщику. Но в тот вечер моя напарница была явно не в себе: накрутит на вилку лапшу и будто о ней забудет. Уронит вилку в тарелку, отопьет пива и уставится в одну точку.
Дело дошло до четвертого кусочка курицы, от моей порции уже ничего не осталось, Энджи решила, что ужин закончен, и отодвинула тарелку.
— Людей не поймешь, — сказала она, уставившись в стол. — Не поймешь. Нельзя постичь, что побуждает их к поступкам, их логику. Если они думают не так, как ты, вся их логика и поступки для тебя — бессмыслица. Ты согласен? — Она взглянула на меня, глаза были на мокром месте и покраснели.
— Ты о Хелен?
— Хелен. — Энджи кашлянула. — Хелен, Большом Дейве и остальных в баре, похитителе Аманды, кто бы он ни был. Логики никакой. — По ее щеке покатилась слеза, и Энджи смахнула ее ладонью. — Черт! — Запрокинув голову, стала смотреть на потолочный вентилятор.
— Энджи, эти подонки в «Филмо» — последние люди. О них и думать-то не стоит.
— У-гу. — Она судорожно, с хрипом вздохнула.
— Ну. — Я погладил ее по руке. — Я серьезно. Они — ничто. Они…
— Они бы изнасиловали меня, Патрик. Это точно. — Она взглянула на меня, губы стали подергиваться и вдруг на мгновение застыли в каком-то диком подобии улыбки. Сначала съежилась кожа вокруг рта, потом все лицо, из глаз полились слезы, а она все пыталась удержать на лице улыбку.
Эту женщину я знал всю жизнь, и мне хватит пальцев на одной руке, чтобы пересчитать случаи, когда она при мне плакала. В тот вечер я не совсем понимал, чем были вызваны эти слезы. На моих глазах Энджи попадала в гораздо более сложные ситуации, чем та, с которой мы столкнулись сегодня в баре, и хоть бы что. Но какова бы ни была причина, видеть ее страдания мне было невыносимо.
Мы сидели в кабинете, полуотгороженном от общего зала. Я поднялся с места и стал обходить стол. Она махнула рукой, показывая, что не хочет, чтобы я приближался. Я все-таки сел рядом с нею, она вцепилась руками в мою рубашку, уткнулась мне в плечо и тихо заплакала. Я обнял ее, гладил по голове, целовал волосы.
— Такой дурой себя чувствую, — сказала Энджи.
— Глупости говоришь, — сказал я.
Мы ехали от «Эшмонт-гриля», и она попросила меня остановиться у парка Коламбия в Южном Бостоне. На его краю возвышались подковообразные, отделанные гранитом трибуны, с трех сторон окружавшие гаревую дорожку. Мы купили упаковку пива, принесли ее на трибуну и сели на скамью, смахнув с нее мусор.
Парк Коламбия для Энджи — место священное. Двадцать лет назад ее отец, Джимми, исчез во время облавы на мафиози, и здесь мать решилась сказать дочерям, что их отца нет в живых, хоть тело тогда и не было найдено. Когда Энджи не может заснуть или ей по ночам мерещатся призраки, она иногда приходит сюда.
Океан шумел в полусотне метров от нас, и дувший с него ветер заставил нас, чтобы не замерзнуть, крепко прижаться друг к другу.
Энджи наклонилась вперед, глядя на беговую дорожку и широкую полосу зелени за стадионом.
— Знаешь что?
— Что?
— Не понимаю, как можно причинять страдания другим людям. — Она повернулась и оказалась лицом ко мне. — Я сейчас не о тех, кто отвечает насилием на насилие. В этом мы все повинны. Я о людях, которые причиняют страдания другим просто так. Кому нравится делать гадости. Кто ловит кайф оттого, что утаскивает за собой в дерьмо всех.
— Ты о пьяницах в баре.
— Да. Они бы меня изнасиловали. Изнасиловали. Меня. — На мгновение она приоткрыла рот, как будто смысл этих слов вдруг дошел до нее впервые. — А потом пошли бы домой и отпраздновали. Нет-нет, погоди. — Она протестующе вскинула руки, чтобы я не перебивал ее. — Нет, не то. Они бы не праздновали. Самое плохое не это. Самое плохое то, что они бы и не думали об этом. Раздели бы меня, надругались всласть, а потом помнили бы об этом так, как помнишь выпитую чашку кофе. Не как что-то такое, что следует праздновать, а как одно из рядовых впечатлений дня.
Я молчал. Что тут скажешь?
— А Хелен, она, Патрик, почти такая же дрянь, как эти пьяницы.
— При всем уважении, ты преувеличиваешь, Эндж.
— Нисколько. Изнасилование — осквернение одноразовое. Оно жжет тебя изнутри и сводит тебя на нет, пока какая-то скотина сует в тебя свой член. Но Хелен со своим ребенком сделала… — Энджи взглянула на беговую дорожку внизу и отхлебнула пива. — Ты слышал, что говорят матери. Видел, как Хелен относится к исчезновению девочки. Готова спорить, она оскверняет Аманду каждый день, не насилием, не жестокостью, а равнодушием. Она выжигала своего ребенка изнутри, понемногу, так отравляют мышьяком. Вот что такое Хелен. Она — мышьяк. — Энджи кивнула, как бы подтверждая для себя верность сделанного вывода. — Она — мышьяк.
Я взял ее ладони в свои.
— Можно позвонить из машины и отказаться от этого дела. Хочешь?
— Нет. — Энджи покачала головой. — Ни в коем случае. Эти люди, эти эгоистичные гребаные людишки — Большие Дейвы и Хелен — они загрязняют собой мир. И я знаю: что посеяли, то и пожнут. И хорошо. Но мне пути не будет, пока не найдем девочку. Беатрис была права. Аманда там одна. И никому до нее нет дела.
— Кроме нас.
— Кроме нас. — Глаза Энджи горели какой-то яростной одержимостью. — Я буду искать ее, Патрик.
— Хорошо, Энджи, хорошо, мы будем ее искать.
— Ладно, — сказала она и слегка стукнула своей банкой с пивом по моей.
— А если она уже мертва? — спросил я.
— Она жива, я это чувствую.
— Но если?
— Она жива. — Энджи допила пиво и бросила банку в сумку, стоявшую у моих ног. — Жива, и все. Ты понял?
— Конечно.
Когда мы пришли домой, Энджи обессиленно рухнула на кровать и тут же выключилась. Я вытащил из-под нее покрывало, укрыл ее и погасил свет, потом пошел на кухню, сел за стол и стал записывать сведения, касающиеся исчезновения Аманды и собранные за последние двадцать четыре часа: наши разговоры с Маккриди, с персонажами из «Филмо», с родителями детей на спортплощадке. Закончив, я достал из холодильника пиво и стал пить, стоя прямо посреди кухни. Всякий раз при виде темных прямоугольников окон перед глазами всплывало ухмыляющееся, с мокрыми от бензина волосами лицо Джерри Глинна, заляпанное кровью его последней жертвы, Фила Димасси.
— Патрик, — казалось, шептал мне Джерри, — я жду тебя.
Я задернул шторы.
Когда Энджи, Оскар, Девин, Фил Димасси и я шли по следу Джерри Глинна, его партнера Эвандро Аруйо и отбывающим срок психотика Алека Хардимана, вряд ли кому-нибудь из нас приходило в голову, какими жертвами это обернется.
Джерри и Эвандро потрошили людей, вытаскивали внутренности, отрезали головы, распинали просто для развлечения, — то ли всем назло, то ли потому, что Джерри ужасно раздражал Господь Бог, то ли просто так. Я не мог понять, что двигало этими людьми. Да и другие, думаю, — тоже. Рано или поздно мотивы теряли значение в свете совершенных поступков.
Кошмары о Джерри мне снились часто. И уж если снился кошмар, то в нем обязательно участвовал Джерри. Не Эвандро, не Хардиман. Только Джерри. Возможно, оттого, что я знал его с детства. Помню его копом, он, всегда дружелюбный и улыбчивый, обходил свой участок, ерошил нам вихры. Потом, после выхода на пенсию, он стал владельцем и главным барменом в «Черном изумруде». Мы пили с Джерри, вели разговоры далеко за полночь, мне было с ним легко, я ему доверял. И все это время, более тридцати лет, он убивал сбежавших из дому детей, забытых всеми, за которыми никто не смотрел и которых никто не хватился.
Кошмары были разными, лишь одно оставалось неизменным. Джерри в них всегда убивал Фила. У меня на глазах. Наяву я не видел, как он перерезал горло Филу, хоть и находился от них всего в двух с половиной метрах. Я лежал на полу в баре, принадлежащем Джерри, стараясь не дать его немецкой овчарке выдавить мне клыками глаза. Но я слышал предсмертный крик Фила. Слышал, как он вскрикнул: «Нет, Джерри, нет!» Он умер у меня на руках.
Фил Димасси двенадцать лет был мужем Энджи. До их свадьбы он был моим лучшим другом. Когда Энджи подала на развод, Фил перестал пить, нашел работу, начал зарабатывать, стал, как мне казалось, на путь исправления. Но Джерри в жизни Фила поставил точку.
Джерри пустил пулю Энджи в живот. Джерри рассек мне горло опасной бритвой. Джерри разбил мои отношения с Грейс Коул и ее дочерью Мей. Джерри, вся левая сторона тела которого была охвачена пламенем, в правой держал дробовик и целил мне в лицо, и тогда Оскар всадил в него три пули. Джерри едва не отправил всех нас на тот свет.
И вот: я жду тебя, Патрик, жду.
Никаких оснований опасаться, что поиски Аманды Маккриди приведут к такому же побоищу, у меня не было. Логических оснований — никаких. Аспидно-мрачное же зловещее предчувствие, рассуждал я, следовало объяснить, вероятно, тем, что впервые за долгое время похолодало. Было бы сегодня вечером влажно и тепло, как, например, вчера, я бы чувствовал себя совсем иначе.
И тут снова…
Преследуя Джерри Глинна, мы уяснили себе то, о чем сегодня говорила Энджи: понять человека можно лишь в редких случаях. Мы создания непостоянные, наши побуждения являются результатом взаимодействия целого ряда сил, многие из которых неясны даже нам самим.
Зачем кому-то понадобилось похищать Аманду Маккриди?
Этого я не знал. Понятия не имел.
Почему кто-то — один или целая компания — хочет изнасиловать женщину?
Этого я не понимал.
Я посидел некоторое время с закрытыми глазами, пытаясь мысленным взором увидеть Аманду Маккриди, вызвать в себе чувство, которое подсказало бы, жива она или нет. Но закрытые глаза видели только темноту.
Я допил пиво и заглянул в комнату.
Посреди кровати, лежа на животе, спала Энджи, вытянув одну руку на подушку на моей половине, а другую сжав в кулак у горла. Мне захотелось прилечь к ней и не выпускать из объятий, пока у меня в голове не перестанет проигрываться случившееся сегодня в «Филмо», пока окружающий мир и все отвратительное, что в нем есть, не выйдет из нас и не унесется ночным ветром из наших жизней.
Долго стоял я в дверях и, лелея глупые надежды, смотрел на спящую Энджи.
После ухода от Фила и до того, как мы стали любовниками, Энджи встречалась с продюсером из ТНТНА — кабельной новостной телесети Новой Англии. Я его однажды видел, и особого впечатления он на меня не произвел. Помню только, что поразил меня тонким вкусом в выборе галстуков. И еще злоупотреблял лосьоном после бриться. И муссом. И к тому же с Энджи встречался. Поэтому шансов поладить с ним, играя поздно вечером в Нинтендо и потом в субботний софтбол, с самого начала было немного.
Этот продюсер, правда, в дальнейшем оказался нам полезен, поскольку Энджи время от времени при необходимости одалживала через него на телевидении кассеты с записями местных новостей. Меня всегда поражало, как это у нее получается — поддерживать отношения, даже дружеские, и принимать одолжения от парня, которого два года назад она отшила. Я бы считал себя счастливчиком, если бы удалось договориться с бывшей подружкой о том, чтобы можно забрать у нее мой тостер. Возможно, мне следует поработать над технической стороной разрыва отношений с женщинами.
На следующее утро, пока Энджи принимала душ, я спустился вниз к почтальону и расписался за посылку от Джоэла Калзада из ТНТНА. У нас в городе восемь каналов, которые передают новости: филиалы крупных телесетей, четвертый, пятый, седьмой, ТНТНА и частный независимый на самой большой частоте принимаемого диапазона. Из этих восьми все выходят с выпусками новостей в полдень и в восемнадцать часов, три — в семнадцать, два — в семнадцать тридцать, четыре — в двадцать два и четыре заканчивают работу последними известиями в двадцать три. Вещание начинается в разное время, но не ранее пяти утра, и каждый канал по нескольку раз в течение дня дает в эфир минутный выпуск последних событий.
Джоэл по просьбе Энджи доставал нам с каждого канала записи новостей, в которых упоминалась Аманда, начиная с вечера ее исчезновения. Как ему это удавалось, не спрашивайте. Возможно, телепродюсеры вообще приторговывают записями. Может быть, Энджи удалось как-то умаслить телевизионное начальство. Или сработали связи Джоэла.
Вчера вечером я несколько часов перечитывал газетные статьи об Аманде, но только перепачкал руки типографской краской, да так, что перед тем, как лечь, разукрасил лист бумаги отпечатками своих пальцев. Иногда, если случай не поддается, не раскалывается, кажется твердокаменным, как мрамор, только и остается, что попытаться увидеть дело свежим взглядом, попробовать подход, по крайней мере кажущийся новым. Оставалась надежда, что просмотр записанных на пленку выпусков новостей натолкнет нас на какие-нибудь идеи.
Я достал из посылки восемь кассет для домашнего видеомагнитофона и сложил их в стопку на полу в гостиной возле телевизора. Мы с Энджи завтракали за кофейным столиком, сравнивали свои записи и пытались сочинить план действий на день. Надо было принять меры по поиску Рея Ликански и еще раз встретиться с Хелен, Беатрис и Лайонелом Маккриди, но что еще можно сделать, мы не понимали. В нас все же теплилась надежда, что родственники Аманды вспомнят что-то существенное о вечере ее исчезновения, чего нам до сих пор не сказали.
Я забрал у Энджи грязную тарелку.
— И потом, — сказала она, — иногда вот думаешь: и что это я не согласилась на работу в электроэнергетической компании? — Она взглянула на меня. Я как раз ставил ее тарелку в свою. — Сплошная выгода.
— Пенсия большая будет. — Я отнес тарелки на кухню и поставил в посудомоечную машину.
— Нормированный рабочий день, — услышал я ее голос из гостиной и щелчок зажигалки. Энджи закуривала первую на сегодня сигарету. — Шикарное зубоврачебное обслуживание.
Я заварил кофе и принес чашки в гостиную. Густые волосы Энджи еще не просохли после душа, а в мужских тренировочных штанах и футболке — обычный ее утренний наряд — она казалась меньше, чем была на самом деле.
— Спасибо. — Она забрала у меня чашку, не поднимая головы от блокнота.
— Убьют они тебя, — сказал я.
Не отрываясь от заметок, Энджи взяла сигарету из пепельницы.
— С шестнадцати лет курю.
— Давненько уж.
Она перевернула страницу.
— И все это время тебе было наплевать.
— Твой организм, твоя воля, — сказал я.
Она кивнула.
— Но теперь мы спим вместе, так что неким образом этот организм отчасти и твой. Или нет?
За последние полгода я уже привык к ее дурному настроению по утрам. Случались у Энджи и приливы энергии — она успевала сделать аэробную зарядку и вернуться после прогулки по Крепостному острову еще до моего пробуждения. Но даже в лучшие дни на болтушку Кэти[13] по утрам она нисколько не походила. И если Энджи казалось, что накануне вечером она показала себя с такой стороны, которую показывать не следовало, проявила уязвимость или слабость, что, по ее мнению, было одно и то же, холодный туман заволакивал ее, как низины на рассвете. Энджи зримо присутствовала, но стоило на секунду отвернуться, и она исчезала, скрывалась за белой пеленой и некоторое время из нее не показывалась.
— Я опять придираюсь? — спросил я.
Энджи оторвалась от блокнота и холодно улыбнулась.
— Немного. — Она отхлебнула кофе и снова посмотрела в блокнот. — Ничего тут нет.
— Терпение. — Я включил телевизор и вставил в видеомагнитофон первую кассету.
Ведущий сосчитал от семи до одного, черные и слегка нерезкие цифры сменяли друг друга на синем фоне, мелькнул заголовок — дата исчезновения Аманды, затем появилась картинка: в студии — известные ведущие пятого канала Гордон Тейлор и Таня Билоскирка. Гордона донимал падавший на лоб темный чуб, что в наш век ведущих, высушенных в замороженном состоянии, практически не встречается. У него был пирсинг, взгляд праведника, а в голосе, читал ли он сообщение об огоньках на рождественской елке или о привидениях в Барни, слышалась дрожь возмущения, что вполне компенсировало непорядок с прической. Таня с труднопроизносимой фамилией была в очках, придававших ей вид весьма интеллектуальный, но все мои знакомые считали ее сексуальной милашкой, и, по-моему, этот аспект ее образа имел гораздо большее значение.
Гордон поправил манжеты, Таня ритуально поерзала, усаживаясь на стуле, пошелестела бумагами и приготовилась читать с телесуфлера. На заднике студии между головами ведущих появились слова «Разыскивается ребенок».
— В Дорчестере пропал ребенок, — строго сказал Гордон. — Таня?
— Благодарю, Гордон. — Камера наехала на Таню и показала ее крупным планом. — Исчезновение четырехлетней девочки в Дорчестере поставило в тупик полицию и обеспокоило жителей. Произошло это всего несколько часов назад. Аманда Маккриди пропала из дому на Сагамо-стрит без, как говорят в полиции, — Таня чуть подалась вперед и понизила голос, — следа.
Оператор взял в кадр Гордона, который этого не ожидал. Его рука замерла на полпути к рассыпавшейся по лбу челке.
— За подробностями мы обратимся к Герт Бродерик. Герт?
На экране появилась Герт Бродерик с микрофоном в руке на фоне толпы соседей и любопытных и повторила примерно то же, что говорили Гордон и Таня. Метрах в шести позади Герт, по другую сторону от желтой ленты и цепи полицейских в форме у входа в подъезд, Лайонел удерживал бьющуюся в истерике мать пропавшего ребенка. Хелен кричала что-то, что невозможно было разобрать в шуме толпы, гудении генераторов, дававших электричество для осветительных приборов съемочных групп, и репортажа Герт, который она вела, с трудом переводя дыхание.
— …и это — то немногое, что известно на данный момент полиции. — Герт уставилась в камеру, стараясь не моргать.
— Герт, — раздался на фоне уличного шума голос Тейлора.
Герт приложила руку к левому уху:
— Да, Гордон. Гордон?
— Герт.
— Да, Гордон. Слышу тебя.
— Это — мать девочки у тебя за спиной у подъезда?
Камера показала крупным планом Лайонела и Хелен, сначала расплывчатое изображение, затем оператор навел на резкость. Рот Хелен был открыт, по щекам текли слезы, голова странно ходила вверх-вниз, как у младенца, который еще не научился держать головку.
— По нашему мнению, это — мать Аманды, — сказала Герт, — хотя к настоящему моменту это официально не подтверждено.
Хелен застучала кулаками по груди Лайонела, взвыла и закинула левую руку ему на плечо, указательный палец при этом был направлен на что-то, находящееся за кадром. Мы стали свидетелями переживания страшного горя, вторжения в частную жизнь безутешной матери.
— Она кажется расстроенной, — сказал Гордон. Ну, Гордон, красавец, ни малейшей подробности не упустит!
— Да, — согласилась Таня.
— Поскольку время имеет сейчас первостепенное значение, — сказала Герт, — всех, видевших маленькую Аманду, полиция просит сообщить.
— Маленькую Аманду? — сказала Энджи и покачала головой. — Какой же еще ей быть в четыре года? Огромной, что ли? Взрослой?
— …всех, располагающих какой-либо информацией об этой маленькой девочке…
Показали фотографию Аманды во весь экран.
— …просят сообщить в полицию по телефону, указанному ниже.
Под фотографией на несколько мгновений появился телефонный номер отдела по борьбе с преступлениями против детей, затем передача продолжалась из студии. Вместо слов «Пропал ребенок» между головами ведущих появилась Герт Бродерик в прямом эфире, на этот раз она была дана меньшим планом, крутила в руках микрофон и смотрела в камеру пустым, слегка растерянным взглядом на ничего не выражающем, слегка растерянном лице, между тем как Хелен по-прежнему выходила из себя у подъезда, а Лайонел теперь уже вместе с Беатрис пытался ее удержать.
— Герт, — сказала Таня, — тебе не удалось поговорить с матерью?
Герт вдруг напряженно улыбнулась, стараясь скрыть выражение досады, прошедшее как облачко по ее безмятежному лицу.
— Нет, Таня. Полиция пока не разрешает заходить за ленту, которую вы видите у меня за спиной, поэтому, повторяю, еще предстоит уточнить, является ли эта плачущая женщина у меня за спиной у подъезда Хелен Маккриди.
— Ужасное происшествие, — сказал Гордон, в это время Хелен снова набросилась на Лайонела с кулаками и взвыла так громко, что Герт вздрогнула.
— Ужасное, — согласилась Таня. На экране на полсекунды снова появилось лицо Аманды и телефон отдела по борьбе с преступлениями против детей.
Камера снова показала Гордона.
— Другое важное событие, — сказал он. — В результате стрельбы, открытой грабителями, вломившимися в частный дом в Лоуэлле, два человека погибли и один ранен. Все подробности у Марты Торсни, которая сейчас находится в Лоуэлле. Марта?
На долю секунды изображение исчезло, пошел «снег», затем на мгновение экран стал черным. Мы решили досмотреть кассету до конца в полной уверенности, что Гордон и Таня укажут нам, как следует относиться к событиям на экране, и как-то заполнят в передаче пустоты, недостаточно насыщенные эмоциями.
Через восемь кассет и полтора часа полученные результаты сводились к затекшим ногам и еще более угнетающему впечатлению от тележурналистики, чем было у нас раньше. Репортажи походили друг на друга как две капли воды, если не считать ракурса съемки. По мере того как поиски Аманды затягивались, в новостных выпусках показывали одуряюще похожие интервью с самой Хелен, материалы о доме Хелен, о Бруссарде и Пуле, делающих заявления, о соседях Хелен, расклеивающих объявления, о полицейских, склоняющихся над разложенной на капоте автомобиля картой и освещающих ее фонариками или сдерживающих ищеек. Все эти видеоматериалы сопровождались одними и теми же «содержательными» слащаво-сентиментальными комментариями, все той же заученной озабоченностью и осуждающей наставительностью в выражении глаз, губ и лбов ведущих. А теперь вернемся к нашим программам, заявленным в расписании…
— Ну, — сказала Энджи и так энергично потянулась, что позвоночник у нее хрустнул, как зажатый в щипцах грецкий орех, — мы научились узнавать в лицо соседей Хелен, которых показали по телевизору. Чего мы еще сегодня добились?
Я выпрямился, и в шее у меня тоже затрещало. Скоро можно будет исполнять такую музыку дуэтом.
— Немногого. Я видел Лорен Смит, а раньше думал, что она отсюда переехала. — Я пожал плечами. — Наверное, просто избегала меня.
— Это которая с ножом на тебя кидалась?
— С ножницами, — поправил я. — Мне приятней думать, что это была любовная прелюдия. Они у нее неважно получались.
Энджи шлепнула меня по плечу.
— Ну-ка, посмотрим. Я видела Эйприл Нортон и Сьюзан Сьерсму. Не встречала их со школьных времен. Потом Билли Борана и Майка О’Коннора, он здорово облысел, ты заметил?
Я кивнул.
— И еще изрядно похудел.
— Да кого это волнует?! Он же лысый!
— Иногда мне кажется, что ты еще легкомысленнее, чем я.
Она пожала плечами и закурила.
— Кого мы еще видели?
— Дэниела Гентера, — сказал я. — Бэбса Керниса. Этот чертов Крис Маллен все крутился перед камерой.
— Это я тоже заметила. В начале выпусков.
Я отпил холодного кофе.
— А?
— В начале выпусков. Терся на заднем плане в начале каждой кассеты, но ни разу не показался после середины.
Я зевнул.
— Старина Крис — человек заднего плана. — Опустевшие чашки я подцепил пальцем за ручки. — Еще будешь?
Она покачала головой.
Я поставил ее чашку в посудомоечную машину и налил себе кофе. Энджи вошла, когда я открывал холодильник, чтобы достать сливки.
— Тебе Крис Маллен в нашем квартале когда последний раз попадался?
Я закрыл дверцу холодильника и взглянул на нее.
— Ты когда видела хоть половину из тех, кого мы видели на кассетах?
Она покачала головой:
— Забудь об остальных. Они здесь постоянно. А Крис переехал подальше от центра, купил дом где-то рядом с Девонширскими башнями, кажется, на Восемьдесят седьмой.
Я пожал плечами:
— Снова тебя спрашиваю: и что из этого?
— Чем он на жизнь зарабатывает?
Я поставил картонную упаковку со сливками на стойку рядом с чашкой.
— Работает на Сыра Оламона.
— Который как раз сидит.
— Нашла чем удивить.
— За?..
— Что?
— За что его посадили?
Я взялся за пакет со сливками.
— За что ж еще? — Я повернулся, услышал то, что только что сказал, и пакет замер у моего бедра. — За торговлю наркотиками, — медленно проговорил я.
— Ох, до чего ж ты прав, черт возьми!
Аманда Маккриди не улыбалась. Он смотрела на меня неподвижными пустыми глазами, светлые, какого-то мышиного оттенка волосы сосульками свисали по щекам. У нее был такой же безвольный подбородок, как у Хелен, слишком прямоугольный и маленький для ее личика, желтоватые мешки под глазами наводили на мысли о неправильном питании.
Она не хмурилась, не казалась сердитой или печальной, но просто присутствовала, как будто ее нервная система не знала иерархической системы реакций на раздражители. Сфотографироваться для нее было то же, что поесть, или одеться, или посмотреть телевизор, или пойти погулять с мамой. Любая ее реакция из числа тех, что она успела обнаружить за свою недолгую жизнь, если представить их графически, ложилась на горизонтальную прямую без максимумов, минимумов, безо всего.
Ее фотография лежала чуть-чуть не по центру белого листа бумаги для официальных документов. Под фотографией перечислялись приметы. Еще ниже было написано: УВИДИТЕ АМАНДУ — ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ — и далее телефонный номер Лайонела и Беатрис с их именами, а также отдела по борьбе с преступлениями против детей — обращаться к лейтенанту Джеку Дойлу. Еще ниже помещался номер 911, и уже в самом низу был указан телефон и имя Хелен.
На кухонном столе в доме Лайонела лежала стопка объявлений, лежала на том самом месте, где он оставил ее, придя домой сегодня утром. Он всю ночь расклеивал их на фонарные столбы, на станциях метро, на оградах строек и заколоченных зданиях. Он обклеил ими центр Бостона и Кембридж, пока Беатрис и еще человек тридцать соседей делали то же, поделив между собой остальные станции метро. К рассвету в радиусе двадцати миль вокруг Бостона со всех поверхностей, на которые законно или незаконно можно было наклеить листовку, смотрело лицо Аманды.
Когда мы пришли, Беатрис в гостиной занималась утренними делами: обзванивала полицейских и журналистов, занимающихся исчезновением Аманды, узнавала, нет ли новостей. Затем снова — госпитали и коммерческие учреждения, которые отказались поместить листовку с портретом Аманды у себя в комнате отдыха или кафетерии: объясните причины отказа.
Понятия не имею, когда она спала, да и спала ли вообще.
Хелен была с нами на кухне. Она сидела за столом и, страдая с похмелья, ела из миски хлопья «Эппл-джэкс». Лайонел и Беатрис, возможно почувствовав что-то в одновременном появлении нас с Энджи и Пула с Бруссардом, прошли вместе с нами на кухню. Волосы Лайонела еще не высохли после дождя, капельки влаги рассыпались по его камуфляжной куртке. Детское лицо Беатрис было усталым, как у беженки во время войны.
— Сыр Оламон, — медленно произнесла Хелен.
— Да, Сыр Оламон, — сказала Энджи.
Хелен почесала шею в том месте, где небольшой сосуд пульсировал, как жук, оказавшийся под кожей.
— Я не знаю.
— Не знаете чего? — спросил Бруссард.
— Имя вроде знакомое. — Хелен взглянула на меня и прикоснулась пальцем к слезе, упавшей на пластиковую поверхность стола.
— Вроде знакомое, — сказал Пул. — Вроде знакомое, мисс Маккриди? Вы позволите мне цитировать это ваше высказывание?
— Что? — Хелен провела рукой по своим жидким волосам. — Что? Я сказала: звучит вроде знакомо.
— Имя вроде Сыр Оламон, — сказала Энджи, — никак не звучит. Либо вы его знаете, либо нет.
— Я думаю. — Хелен слегка прикоснулась к носу, потом отняла от него руку и уставилась на пальцы.
Пул взял стул, протащил его ножками по полу, поставил перед Хелен и сел на него.
— Да или нет, мисс Маккриди? Да или нет?
— Да или нет — что?
Бруссард шумно вздохнул, покрутил обручальное кольцо и притопнул ногой.
— Вы знаете мистера Сыра Оламона? — В шепоте Пула слышалось поскрипывание гравия и стекла.
— Я не…
— Хелен! — сказала Энджи до того резко, что даже я вздрогнул.
Хелен посмотрела на нее, и жучок под кожей на горле судорожно забился. Она попробовала выдержать взгляд Энджи, но через десятую долю секунды сдалась.
— Знаю Сыра. Чуть-чуть.
— Чуть-чуть или как следует? — Бруссард достал палочку жевательной резинки, зашелестела обертка из фольги, и от этого шелеста стало казаться, что чьи-то зубы вонзаются мне в спину.
Хелен пожала плечами:
— Я его знала.
Впервые с момента нашего прихода на кухню Беатрис и Лайонел двинулись со своих мест вдоль стены: Беатрис между мною и Бруссардом к плите, Лайонел сел в углу по другую сторону стола от своей сестры. Беатрис сняла чайник с плиты и поставила его под кран.
— Кто такой Сыр Оламон? — Лайонел схватил сестру за руку. — Хелен! Кто такой Сыр Оламон?
Беатрис обернулась ко мне:
— Торгует наркотиками или чем-то таким, я правильно понимаю?
Она говорила так тихо, что из-за шума воды эти слова услышали только мы с Бруссардом.
Я развел руками и пожал плечами.
Беатрис отвернулась к крану.
— Хелен, — повторил Лайонел дрогнувшим голосом.
— Ну, просто парень, Лайонел. — Голос Хелен был усталым, бесцветным.
Лайонел обвел взглядом наши лица.
Мы с Энджи отвернулись.
— Сыр Оламон, — сказал Реми Бруссард и прочистил горло, — среди прочего, мистер Маккриди, торгует наркотиками.
— А еще что? — спросил Лайонел с выражением детского любопытства на лице.
— Что?
— Вы сказали «среди прочего». Что у него «прочее»?
Беатрис поставила чайник на плиту, зажгла газ.
— Почему не отвечаешь на вопрос брата?
— А ты почему у негра не отсосешь, Беа?
Лайонел стукнул кулаком по столу с такой силой, что по дешевому пластику побежала трещинка, как ручеек по каньону.
Хелен запрокинула голову, это движение отбросило волосы от лица.
— Слушай меня. — Лайонел выставил трясущийся палец перед носом сестры. — Не смей оскорблять мою жену и не позволяй себе расистских высказываний у меня на кухне.
— Лайонел…
— У меня на кухне! — И он снова ударил по столу. — Хелен!
Это был вовсе не прежний его голос. Лайонел впервые поднял голос у нас в офисе, и это мне было знакомо. Но сейчас я слышал нечто совсем иное. Гром. От которого крошится бетон и содрогаются дубовые балки.
— Кто, — сказал Лайонел, ухватив свободной рукой угол стола, — кто такой этот Сыр Оламон?
— Торговец наркотиками, мистер Маккриди. — Пул полез в карман и достал пачку сигарет. — Порнограф. Сутенер. — Он достал сигарету, поставил ее вертикально на стол, нагнулся и понюхал табак. — А также уклоняется от уплаты налогов.
Лайонел, который, по-видимому, видел табачный ритуал Пула впервые, на мгновение остолбенел, поморгал, но потом сосредоточился на Хелен:
— Водишься с сутенером?
— Я…
— С порнографом, Хелен?
Она отвернулась, положила правую руку на стол и, избегая наших взглядов, посмотрела в окно.
— Что вы для него делаете? — спросил Бруссард.
— Дурь иногда перевожу. — Хелен закурила, потушила спичку в ладони и затрясла ею, как будто намазывала мелом бильярдный кий.
— Дурь, значит, перевозите, — сказал Пул.
Она кивнула.
— Откуда куда? — спросила Энджи.
— Отсюда в Провиденс. Отсюда в Филли. Туда, где не хватает. — Она пожала плечами. — От спроса зависит.
— И за это получаете что? — спросил Бруссард.
— Наличные. Ну… и еще кое-что про запас. — Она снова пожала плечами.
— Героин? — спросил Лайонел.
Хелен обернулась к брату. В ее пальцах дымилась сигарета.
— Да, Лайонел. Иногда. Иногда кок, иногда экс, а иногда… — Она покачала головой и обернулась к остальным: — Что велят.
— Следы, — сказала Беатрис, — мы бы видели следы уколов.
Пул похлопал Хелен по коленке.
— Она нюхала. — Он расширил ноздри и провел под носом сигаретой. — Правда?
Хелен кивнула.
— Когда нюхаешь, не так привыкаешь, — сказала она.
Пул усмехнулся:
— Ну, разумеется.
Хелен убрала его руку со своего колена, встала, прошла к холодильнику, достала банку пива «Миллер» и с резким щелчком ее открыла. Из отверстия пошла пена. Хелен, запрокинув голову, заливала пиво в рот. Я взглянул на часы. Было только полодиннадцатого.
Бруссард позвонил детективам из отдела по борьбе с преступлениями против детей и попросил немедленно отыскать Криса Маллена и установить за ним слежку. Теперь, считая двоих сотрудников, направленных по следу Рея Ликански, поисками, так или иначе связанными с исчезновением Аманды, сверхурочно занимался весь отдел.
— Вся информация строго для служебного пользования, — сказал Бруссард в трубку. — В настоящее время только я буду знать, чем вы заняты. Ясно?
По окончании телефонного разговора мы прошли вслед за Хелен и ее утренним пивом на заднюю террасу. По небу плыли плоские кобальтовые облака, серое утро замерло, и ставший более плотным влажный воздух предвещал дождь во второй половине дня.
Пиво, по-видимому, позволило Хелен сосредоточиться, что на трезвую голову у нее получалось неважно. Она облокотилась о перила террасы, посмотрела нам в глаза без страха или жалости к себе и ответила на вопросы о Сыре Оламоне и его правой руке, Крисе Маллене.
— Давно знаете мистера Оламона? — спросил Пул.
Она пожала плечами:
— Лет десять-двенадцать. Он из нашего квартала.
— А Криса Маллена?
— Примерно столько же.
— Где началась ваша совместная деятельность?
Хелен опустила банку с пивом.
— Что?
— Где ты нашла этого сырного типа? — спросила Беатрис.
— В «Филмо», — сказала Хелен и отхлебнула из банки.
— Когда вы стали на него работать? — спросила Энджи.
— Все эти годы понемногу. — Хелен опять пожала плечами. — Года четыре назад мне понадобились деньги. На Аманду…
— Господи боже мой! — ужаснулся Лайонел.
Хелен взглянула на него, потом на Пула и Бруссарда.
— …так он отправлял меня затариваться несколько раз. Так, все больше по мелочам.
— Все больше, — повторил Пул.
Хелен поморгала и торопливо кивнула.
Пул обернулся к ней и оттопырил языком нижнюю губу. Бруссард переглянулся с ним и вытащил из кармана еще палочку жевательной резинки. Пул усмехнулся.
— Мисс Маккриди, вы знаете, в каком подразделении мы работали с детективом Бруссардом до перехода в отдел по борьбе с преступлениями против детей?
Хелен презрительно поморщилась:
— Меня это должно волновать?
Бруссард сунул жевательную резинку в рот.
— В общем-то вам это, конечно, все равно, но просто для протокола…
— Ловили наркодилеров, — сказал Пул.
— Отдел по борьбе с преступлениями против детей довольно мал, новичков там не очень жалуют, — сказал Бруссард. — Так что в основном мы общаемся с ребятами из отдела по борьбе с распространением наркотиков.
— Чтобы не отставать от жизни, — добавил Пул.
Хелен покосилась на него, пытаясь сообразить, к чему все это.
— Вы сказали, что поставляли дурь по филадельфийскому коридору, — сказал Бруссард.
— Ну, сказала.
— Кому именно?
Хелен покачала головой.
— Мисс Маккриди, — сказал Пул, — мы здесь не наркодилеров ищем. Скажите нам имя, чтобы мы могли убедиться, что вы действительно перевозили товар для Сыра Ол…
— Рик Лембо.
— Рики Член. — Бруссард удовлетворенно улыбнулся.
— Где именно заключались сделки?
— В отеле «Рамада», возле аэропорта.
Пул кивнул Бруссарду.
— В Нью-Гэмпшир Сыр вас посылал?
Хелен сделала большой глоток и покачала головой.
— Нет? — Бруссард удивленно поднял брови. — И возле мотеля «Нашуа» не продавали? И никаких распродаж байкерам?
Хелен снова отрицательно покачала головой:
— Нет. Я — нет.
— Сколько вы слупили с Сыра, мисс Маккриди?
— Простите? — не поняла Хелен.
— Три месяца назад Сыр нарушил условия, под которые его выпустили условно-досрочно. Получил от десяти до двенадцати лет. — Бруссард выплюнул жвачку через поручни. — На сколько вы его кинули, узнав, что он сел?
— Ни на сколько. — Хелен не сводила глаз с босых ног.
— Чушь собачья!
Пул подошел к Хелен, осторожно забрал у нее из рук пиво, перегнулся через перила, наклонил банку и вылил содержимое на асфальтированную дорожку под террасой.
— Мисс Маккриди, слышу я последние несколько месяцев, как говорится, на улице, что Сыр Оламон прямо перед самым арестом отправил хороший пакет каким-то байкерам в мотель «Нашуа». Во время облавы пакет конфисковали, а деньги — нет. Поскольку байкерам — а они все ребята крепкие — еще только предстоит отведать содержимое пакета, наши северные друзья, стоящие на страже закона и порядка, считают, что сделка состоялась буквально за несколько мгновений до появления полиции. Дальнейшие размышления привели многих к мнению, что курьер ушел с деньгами. Что, как говорят сейчас в городе, было полной неожиданностью для ребят Сыра Оламона.
— Где деньги? — спросил Бруссард.
— Не понимаю, что вы такое говорите.
— Желаете пройти испытание на полиграфе?
— Уже проходила.
— На этот раз вопросы будут другие.
Хелен повернулась к перилам и посмотрела на небольшую, залитую гудроном автостоянку, за которой стояло несколько засохших деревьев.
— Сколько, мисс Маккриди? — Голос Пула был тих, безо всякого намека на давление или стремление получить ответ побыстрее.
— Двести тысяч.
На минуту на террасе воцарилась тишина.
— Кто ездил туда с вами? — наконец спросил Бруссард.
— Рей Ликански.
— Где деньги?
Костлявая спина Хелен напряглась.
— Не знаю.
— На врунишке, — сказал Пул, — горят штанишки.
Хелен повернулась от перил.
— Не знаю. Богом клянусь.
— Она Богом клянется. — Пул подмигнул мне.
— Ну что ж, в таком случае, — сказал Бруссард, — мне кажется, мы должны поверить.
— Мисс Маккриди. — Пул поправил манжеты. Говорил он небрежно, почти нараспев.
— Послушайте, я…
— Где деньги? — Чем небрежней и распевней говорил Пул, тем явственнее угадывалась исходящая от него угроза.
— Я не… — Хелен провела рукой по лицу и повисла на поручнях. — Я была совсем никакая, понимаете? Выходим мы из мотеля, идем по автостоянке. Через две секунды мимо нас проносится вся полиция Нью-Гэмпшира. Рей прижался ко мне, мы сквозь них и прошли. Аманда плакала, они, видно, решили, что мы — семья, просто мимо проезжаем.
— Аманда была с тобой? Там? — сказала Беатрис. — Хелен!
— Что? — ответила Хелен. — В машине надо было ее оставить?!
— Итак, вы уехали, — сказал Пул. — Вы были никакая. И что потом?
— Рей заехал к другу. Пробыли у него примерно час.
— Где в это время находилась Аманда? — спросила Беатрис.
— Да я почем знаю, Беа? В машине или в доме вместе с нами. Одно из двух. Говорю тебе, я была совсем никакая.
— Когда вышли из дому, деньги были при вас? — спросил Пул.
— Вряд ли.
Бруссард открыл блокнот.
— Где дом?
— В переулке.
Бруссард закрыл глаза.
— Где именно? Адрес, мисс Маккриди.
— Я вам говорю, я была совсем никакая. Я…
— Ну, тогда хоть город назовите, вашу мать, — сказал Бруссард сквозь зубы.
— Чарлстаун, — сказала Хелен, склонила набок голову и задумалась. — Да. Почти точно. Или Эверетт.
— Или Эверетт, — сказала Энджи. — Это значительно сужает круг поисков.
— Чарлстаун — это там, где большой памятник, Хелен, — сказал я и ободряюще улыбнулся. — Вы понимаете, о чем я говорю. Похож на памятник Вашингтону, но только на холме Банкер.
— Он надо мной что, смеется? — обратилась Хелен к Пулу.
— Я бы не рискнул делиться своими предположениями, — сказал Пул. — Но мистер Кензи прав. Если б вы были в Чарлстауне, вы бы запомнили памятник. Ведь верно?
Наступила очередная долгая пауза, Хелен изо всех сил напрягала то, что осталось от ее мозга. Я уж подумал, не принести ли ей еще банку пива для стимуляции мышления.
— Точно, — очень медленно проговорила она. — На обратном пути мы проехали по большому холму рядом с памятником.
— Значит, дом, — сказал Бруссард, — был на восточной стороне города.
— Восточной? — повторила Хелен.
— Вы были ближе к району Банкер-Хилл, к Медфорд-стрит или Банкер-Хилл-авеню, чем к Мейн-стрит или Уоррен-стрит.
— Ну, раз вы так говорите…
Бруссард склонил голову, потер ладонью щетину на щеке, коротко вздохнул.
— Мисс Маккриди, — сказал Пул, — вы еще что-нибудь о доме помните, кроме того, что он стоял в конце переулка? Это был дом на одну семью или на две?
— Он был очень маленький.
— Будем считать, что на одну семью. — Пул сделал пометку в блокноте. — Какого цвета?
— Они были белые.
— Кто?
— Друзья Рея. Женщина и мужчина. Оба белые.
— Отлично, — сказал Пул. — Но — дом. Какого он был цвета?
Она пожала плечами:
— Я не помню.
— Поехали искать Ликански, — сказал Бруссард. — Можно поехать в Пенсильванию. Черт, я сяду за руль.
Пул выставил руку:
— Дайте нам еще минутку, детектив. Мисс Маккриди, пожалуйста, вспомните. Вспомните тот вечер. Запахи. Музыку, ведь у Ликански в машине стереосистема. Вспомните все, что угодно, только бы снова почувствовать себя в той машине. Вы ехали из «Нашуа» в Чарлстаун. Это примерно десять часов, может, чуть меньше. Вы были никакая. Вы свернули в этот переулок, и вы…
— Мы — нет.
— Что?
— Мы в переулок не сворачивали. Остановились на улице. В переулке стояла старая сломанная машина. Пришлось колесить минут двадцать, пока нашли, где ее оставить. Там это непросто.
Пул кивнул:
— Сломанная машина в переулке. Было в ней что-нибудь запоминающееся?
Хелен покачала головой:
— Просто груда ржавого железа. Стояла на подпорках. Ни колес, ничего.
— Понятно, подпорки, — сказал Пул. — Больше ничего?
Хелен уже начала отрицательно покачивать головой, но вдруг замерла и захихикала.
— О чем смеемся? — спросил Пул.
— А?
— Что вас рассмешило, мисс Маккриди?
— Гарфилд.
— Джеймс Эй? Наш двадцатый президент?
— А? — Хелен выпучила глаза. — Нет. Тот кот.
Мы все посмотрели на нее в недоумении.
— Тот кот! — Она вытянула руки. — Из комиксов.
— Гм, — произнес я.
— Помните, все прилепляли этих Гарфилдов на окна в машинах? Ну. В той машине тоже был. Вот так я поняла, что он висит там типа вечно. Ну, сами подумайте, кто в наше время прилепляет Гарфилдов к стеклам?
— И в самом деле, — зло сплюнул Пул.
По прибытии в Новый Свет Уинтроп и другие первопоселенцы обосновались на клочке земли площадью примерно полтора квадратных километра, большая часть которого была на холме. Холм назвали именем родного английского города — Бостоном. Первая же зима оказалась суровой, и тогда выяснилось, что вода здесь почему-то солоноватая, поэтому поселенцы переправились через пролив, забрав с собой название «Бостон» и оставив на некоторое время то, что в дальнейшем станет Чарлстауном, без имени и назначения.
С тех пор Чарлстаун тесно связан с историей освоения Северной Америки. Основали его ирландцы, здесь прожило десять поколений рыбаков, купцов, ведших морскую торговлю, и портовых рабочих, поэтому горожане печально известны своей немногословностью и нежеланием общаться с полицией, вследствие чего частота убийств здесь хоть и невелика, но процент нераскрытых — самый высокий в стране. Эта неразговорчивость проявляется и в повседневной жизни. Спросите местного жителя, как пройти на такую-то улицу, и он прищурится.
— Какого хрена ты тут толчешься, если дороги не знаешь?! — так мог бы он вежливо ответить и показать, уж если вы ему действительно понравитесь, сложенный кулак с выставленным средним пальцем.
Заблудиться и заплутать в Чарлстауне легко. Таблички с названиями постоянно куда-то исчезают, здания вдоль улиц местами так теснятся друг к другу, что можно легко пропустить переулок, ведущий к домам, которые стоят за ними в глубине. Улочки, ведущие по склону холма, часто заканчиваются тупиками, заставляют водителя разворачивать назад.
Кварталы Чарлстауна меняют характер с поразительной быстротой. В зависимости от направления движения жилой район Мишавам может смениться вполне пристойными, с точки зрения среднего класса, кирпичными домами, подковой окружающими Эдвардс-Парк. Улицы здесь проходят через великолепие колониальных городских зданий из красного кирпича с белой отделкой, обступающих площадь Памятника, и без всякого предостережения или уважения к истории переходят в темно-серый район Банкер-Хилл, один из беднейших белых жилых кварталов по эту сторону от Западной Виргинии.
Повсюду разбросаны исторические здания — из кирпича и известкового раствора или обшитые чем-то вроде дранки в колониальном вкусе. На вымощенных булыжником улицах попадаются дореволюционные бары и места проживания моряков уже после Версальского договора — подобное редко встретишь в других американских городах.
Но тут по-прежнему хрен проедешь. Собственно, последний час этим мы и занимались, следуя за «таурусом» Пула и Бруссарда с Хелен, сидевшей на заднем сиденье, поднимались в гору, спускались, огибали, пытались пересечь Чарлстаун. Изъездили весь холм, петляли по задворкам обоих жилых районов, дергались бампер к бамперу по анклавам яппи в гору мимо Памятника на Банкер-Хилл и вниз по склону к началу Уоррен-стрит. Колесили и у доков, проезжали мимо и старых «железнобоких», и военно-морской базы, и мрачных складов, и крытых ангаров, где раньше ремонтировали танкеры, а ныне перестроили в дорогостоящие жилые помещения, со скрежетом преодолевали ухабы дорог у самого океана вокруг выгоревших помещений давно забытого рыбоводческого хозяйства, где не один умник последний раз видел Таинственную реку, лунную дорожку на воде, когда пуля, начав движение с казенной части ствола, вломилась ему в череп.
Мы ехали по Мейн-стрит и Резерфорд-авеню, поднимались до Хай-стрит и спускались по Банкер-Хилл-авеню и за Медфорд-стрит, обследовали каждую улочку между ними, останавливались у каждого переулочка, вдруг попадавшегося нам на глаза. Искали машину на подпорках. Искали двести косых. Искали Гарфилда.
— Рано или поздно, — сказала Энджи, — у нас просто бензин кончится.
— Или терпение, — добавил я, увидев, как Хелен указывает на что-то в окно «тауруса».
Я снова затормозил, перед нами остановился «таурус», Бруссард и Хелен вышли, подошли к углу и заглянули в переулок. Он что-то спросил, она отрицательно мотнула головой, они вернулись к машине, я снял ногу с педали тормоза.
— Почему мы снова ищем деньги? — спросила Энджи, когда мы стали спускаться по другому склону холма и капот нашей «краун-виктории» смотрел строго в сторону его подножия, а педаль тормоза прыгала у меня под ногой и слышался характерный визг.
Я пожал плечами:
— Может, потому, что это самая верная зацепка за последнее время, а кроме того, вероятно, Бруссард и Пул теперь считают, что ребенка похитили в связи с наркотиками.
— Так где же требование выкупа? Почему Крис Маллен, Сыр Оламон или кто-нибудь из их шайки не дал о себе знать Хелен?
— Может, ждут, пока она сама сообразит?
— Не слишком ли многого они ждут от такой дуры?
— Крис и Сыр ведь и сами не семи пядей во лбу.
— Верно, но…
Мы снова остановились, на этот раз Хелен, размахивая руками и указывая на контейнер для строительного мусора, вышла из машины раньше Бруссарда. На другой стороне улицы шла стройка, но рабочих мы не видели, хотя они должны были быть где-то рядом — фасад здания был в лесах.
Я поставил машину на ручной тормоз, вышел и почти сразу же понял причину возбуждения Хелен. Контейнер, метра полтора на метр двадцать, загораживал собой переулок. В нем на подпорках стоял «гран-торино» конца семидесятых годов, сквозь грязное стекло заднего окна лыбился прикрепленный присосками жирный оранжевый кот с растопыренными лапами.
Поставить здесь машины значило бы загородить проезд по переулку, поэтому пришлось еще покружиться в поисках парковки ближе к вершине холма на Бартлет-стрит. Затем впятером вернулись обратно. За это время на лесах появились строители — с прохладительными напитками и литровками «Горной росы». Увидев Хелен и Энджи, они заулюлюкали им вслед.
У поворота Пул преградил дорогу работягам, один резко отвернулся.
— О, Фред Гриффин, — обрадовался Пул. — По-прежнему верен амфетаминам?
Фред Гриффин помотал головой.
— Извинись, — с угрозой произнес нараспев Пул и свернул в переулок.
Фред откашлялся:
— Прошу прощения, дамы.
Хелен показала ему средний палец, и бригада понятливо захохотала.
Энджи подтолкнула меня локтем, и мы немного отстали от остальных.
— По-моему, Пула что-то беспокоит, несмотря на эту его фирменную улыбочку?
— Я бы, — сказал я, — с ним связываться не стал. Но я — слабак.
— Это наша тайна, милый. — Она шлепнула меня пониже пояса, вызвав новый взрыв гогота на лесах.
«Гран-торино» стоял тут на подпорках довольно давно, в этом Хелен не ошиблась. На шлакоблоках, подложенных вместо колес, виднелись чешуи ржавчины и желтовато-бежевые пятна. На стеклах собралось столько пыли, что непонятно, как нам удалось разглядеть Гарфилда. Приборную панель закрывала газета с заголовком статьи о поездке принцессы Дианы с мирной миссией в Боснию.
Переулок был вымощен булыжником, который местами потрескался, местами раскрошился, обнажив под собой серую землю. Под затянутым паутиной газовым счетчиком стояли два переполненных мусором пластиковых бака. Расстояние между расположенными напротив друг друга «трехпалубными» домами было так мало, что оставалось загадкой, как между ними втиснули «гран-торино».
В конце переулка метрах в десяти от угла располагался одноэтажный дом, похожий на коробку и построенный, судя по незатейливости архитектуры, в середине прошлого века. Это могла бы быть сторожка бригадира стройки или небольшая радиостанция, во всяком случае, сооружение не уцелело бы среди домов с более притязательной архитектурой, но даже и здесь оно смотрелось как бельмо на глазу. Ступенек не было, покосившаяся дверь закрывала проем, начинавшийся в двух сантиметрах от фундамента. Стены были закрыты черным рубероидом, будто кто-то когда-то хотел отделать их алюминиевым сайдингом, но уехал, не дождавшись доставки материала.
— Имена жильцов помните? — Пул расстегнул ремешок на кобуре.
— Не помню, — сказала Хелен.
— Почему я не удивлен? — Бруссард разглядывал выходившие в переулок окна, закрытые запыленными пластиковыми жалюзи, опущенными до самых подоконников. — Так, говорите, их тут двое?
— Ага. Мужчина и его подружка. — Хелен посмотрела наверх и по сторонам на «трехпалубные» дома. Мы находились в тени одного из них.
У нас за спиной с шумом распахнулось окно. Хелен испуганно ойкнула.
Из окна второго этажа, высунув голову, на нас смотрела пожилая женщина. В руках она держала деревянную ложку, с которой сорвалась длинная плоская макаронина лингвини и упала на землю.
— Вы насчет животных?
— Мадам? — покосился Пул.
— Общество защиты животных, — сказала женщина, махнув ложкой, — вы оттуда?
— Все пятеро? — с непонятной интонацией произнесла Энджи.
— Я звонила, — сказала женщина. — Звонила вам.
— По какому поводу? — удивился я.
— По поводу этих чертовых кошек хитрожопых. У меня внук Джеффри воет в одно ухо, муж сволочится в другое. У меня что, еще третье есть, этих чертовых кошек слушать?
— Нет, мадам, — сказал Пул. — Третьего уха я у вас не вижу.
Бруссард кашлянул.
— Мы отсюда только вас видим, мадам, и то спереди.
Энджи прыснула в кулак, Пул хрюкнул и уставился на свои ботинки.
— Вы копы. Сразу видно, — сказала женщина.
— Что нас выдало? — спросил Бруссард.
— Недостаток уважения к рабочему человеку. — Женщина с такой силой захлопнула окно, что стекла зазвенели.
— Отсюда мы вас только спереди видим, — усмехнулся Пул.
— Понравилось? — Бруссард повернулся к двери домика и постучал.
Я посмотрел на переполненные мусорные баки у газового счетчика и с десяток жестянок из-под кошачьего корма.
Бруссард постучал снова.
— Уважаю рабочих людей, — сказал он, не обращаясь ни к кому в частности.
— Я тоже, большей частью, — согласился Пул.
Я посмотрел на Хелен. И что Пул с Бруссардом не оставили ее в машине?
Бруссард постучал в третий раз, за дверью послышался кошачий крик.
Бруссард сделал шаг назад.
— Мисс Маккриди.
— Я тут.
Он указал на дверь:
— Вы не будете так любезны повернуть ручку?
Хелен туповато посмотрела на него, но сделала, как ее просили, и дверь открылась внутрь.
Бруссард улыбнулся.
— А теперь не переступите ли через порог?
Хелен снова послушалась.
— Отлично, — сказал Пул. — Видите что-нибудь?
Она обернулась к нам.
— Тут темно. Запах, однако, странный.
Бруссард, записывая в блокнот, продиктовал сам себе:
— По словам гражданки, в помещении необычный запах. — Он надел колпачок на ручку. — Так. Можете выйти к нам, мисс Маккриди.
Мы с Энджи переглянулись и покачали головами. Сразу видно: Пул и Бруссард — опытные полицейские. Хелен открыла дверь и вошла первой, что позволило обойтись без ордера. «Необычный запах» — вполне подходящий предлог для появления полиции, а после того, как Хелен открыла дверь, войти на законных основаниях мог почти кто угодно.
Хелен вышла на булыжную мостовую и посмотрела на окно, из которого женщина жаловалась на кошек.
Одна из них, рыжая, полосатая, невероятно худая, с проступающими ребрами метнулась мимо Бруссарда, повернула за мной, взмыла в воздух, приземлилась на мусорном баке и пропала в консервных банках.
— Кошачьи следы. Это запекшаяся кровь.
— У, мерзость, — сказала Хелен.
— Вы, — Бруссард указал на нее, — оставайтесь здесь. Не двигайтесь, пока не позовем.
Хелен порылась в карманах в поисках сигарет.
— Мне два раза повторять не надо.
Пул, оставаясь на мостовой, потянул носом воздух из дверного проема, обернулся к Бруссарду и, нахмурившись, кивнул.
Мы с Энджи подошли и стали рядом с ними.
— Копченая сельдь, — сказал Бруссард, — у кого-нибудь есть с собой одеколон или духи?
Мы с Энджи покачали головами. Пул достал из кармана флакончик «Арамиса». Я и не знал, что его еще производят.
— «Арамис»? — спросил я. — Его вроде перестали выпускать, нет?
Пул несколько раз поднял и опустил брови.
— И «Олд Спайс», к сожалению, тоже.
Он передал нам флакон, и каждый, не скупясь, помазал себе под носом. Энджи смочила и носовой платок. Хоть одеколон, казалось, обжигал ноздри, все же так было лучше, чем чувствовать запах, стоявший в доме.
«Копченой сельдью» некоторые полицейские, санитары и врачи называют трупы, успевшие некоторое время полежать в тепле. От образующихся газов тела, в которых кислоты могут безудержно течь, куда им вздумается, вздуваются, как воздушные шары, и происходит еще много всего, что не способствует хорошему аппетиту.
Войдя, мы оказались в прихожей шириной с мою машину. Зимние сапоги с выкристаллизовавшейся солью стояли рядом со стопкой февральских газет, лопатой с растрескавшимся древком, ржавой хибачи[14] и мешком с пустыми алюминиевыми банками из-под пива. Тонкий зеленый половик в нескольких местах был разорван, на ткани засохли кровавые отпечатки кошачьих лап.
Из прихожей мы попали в гостиную, освещенную светом с улицы и серебристым мерцанием еле слышного телевизора. В доме было темно, но серый свет все же проникал сквозь жалюзи, наполняя комнаты оловянным туманом, который, впрочем, не слишком скрадывал убожество обстановки. Половики были все драные, разных цветов и рисунков, заплатанные в соответствии с эстетическими вкусами наркоманов-хозяев. Стыки обрезанных и сшитых между собой частей местами выгибались, образуя подобие горных хребтов. Стены были обшиты светлой фанерой, на потолках чешуйками отставала белая краска. У стены стоял диван с рваным футоном,[15] и, когда глаза привыкли к тусклому серому свету, я увидел несколько пар глаз, смотревших на нас из его разорванной ткани.
Из футона доносилось тихое электрическое гудение, будто цикады стрекотали возле генератора. Образуя ломаную линию, в нем двигались несколько пар глаз.
И тут они на нас бросились.
По крайней мере, так нам показалось сначала. Исходу из футона предшествовал хор в десять глоток, и кошки — сиамские, полосатые, пятнистые — выбрались, извиваясь и цепляясь когтями за что попало, из дивана, перемахнули через кофейный столик на сшитый из частей половик, пронеслись между нашими ногами, не сумев вовремя остановиться, под острым углом врезались в плинтус и выскочили за дверь.
— Матерь божья! — воскликнул Пул и запрыгал на одной ноге.
Мы с Энджи прижались к обшарпанной стене. Клок густой шерсти соскользнул у меня с ботинка. Бруссард дернулся вправо, влево и отряхнул полы пиджака.
Мы, однако, кошек нисколько не интересовали. Они стремились к солнечному свету.
Снаружи донесся визг Хелен, по-видимому, животные выскочили в переулок.
— Срань господня! Помогите!
— А что я вам говорила?! — послышался визгливый голос, который, как я решил, принадлежал женщине средних лет. — Напасть. Господь наслал напасть на город Чарлстаун!
В доме стало вдруг так тихо, что я услышал доносившееся из кухни тиканье часов.
— Кошки, — сказал Пул с нескрываемым отвращением и отер лоб носовым платком.
Бруссард, согнувшись, рассмотрел отвороты брюк и стряхнул клочок кошачьей шерсти с ботинка.
— Кошки умные, — сказала Энджи, отходя от стены, — не то что собаки.
— Зато собака газету принести может, — возразил я.
— И диваны не потрошат, — добавил Бруссард.
— Собаки, когда голодные, не едят трупы своих хозяев, — сказал Пул. — А кошки едят.
— Уф, — выдавила из себя Энджи. — Не может быть. Правда, что ли?
Мы медленно прошли на кухню.
Оказавшись там, я остановился перевести дыхание и вдохнуть одеколон с верхней губы.
— Черт! — Энджи уткнулась в носовой платок.
К стулу был привязан голый мужчина. Рядом с ним, прижав подбородок к груди, стояла на коленях женщина, бретельки белого в черных пятнах засохшей крови неглиже свисали до локтей, руки за спиной у запястий и ноги у лодыжек были связаны между собой. Оба тела раздулись и побелели до оттенка вулканического пепла.
Мужчину убили выстрелом, который разнес ему грудину и верхнюю часть грудной клетки. Судя по размеру дыры, стреляли в упор из дробовика. И к сожалению, Пул оказался прав относительно пищевого поведения и сомнительной преданности кошачьих своим хозяевам. Но помимо повреждений, нанесенных выстрелом, временем и кошками, верхняя часть грудной клетки выглядела так, будто ее вскрыли хирургическими ножницами.
— Тут совсем не то, что должно быть, — сказала Энджи, не отводя глаз от зияющей дыры в груди трупа.
— Не хотелось бы огорчать вас, — сказал Пул, — но так выглядят человеческие легкие.
— Они должны тут быть, — сказала Энджи. — Меня сейчас вырвет.
Пул уперся шариковой ручкой в подбородок головы мужчины, приподнял ее и отступил на шаг.
— А, привет, Дэвид!
— Мартин? — спросил Бруссард и сделал шаг к трупу.
— Он самый. — Пул отпустил голову и прикоснулся к темным волосам. — Неважно выглядишь, Дэвид.
Бруссард обернулся к нам:
— Дэвид Мартин. Известен также как Малыш Дэвид.
Энджи кашлянула в платок.
— По-моему, никакой он не малыш.
— «Малыш» не имеет отношения к росту.
Энджи взглянула в промежность покойного.
— Ох!
— А это, наверное, у нас Кимми, — сказал Пул, переступил через лужу засохшей крови и подошел к трупу женщины.
Горло Кимми, как небольшой каньон, пересекал черный разрез. Подбородок и скулы были в черной засохшей крови, глаза смотрели вверх, как бы прося спасения, или помощи, или доказательства того, что хоть что-то, пусть что угодно, ожидало ее за пределами этой кухни.
На руках были широкие надрезы, также засохшие. На плечах и вдоль ключиц кожу покрывали ямки, в которых я узнал ожоги от сигарет.
— Ее пытали.
Бруссард кивнул:
— На глазах у дружка. «Скажи где, не то снова ее порежу». Что-то в таком духе. — Он покачал головой. — В общем, жаль. Для кокаинистки Кимми была вполне ничего женщина.
Пул сделал шаг назад.
— Кошки ее не тронули.
— Что? — переспросила Энджи.
Пул указал на Малыша Дэвида:
— Как видите, над Мартином попировали. А Кимми не тронули.
— Что вы хотите сказать? — спросил я.
Он пожал плечами:
— Любили они Кимми. А Малыша Дэвида не любили. Жаль, что убийцы не разделяли этих чувств.
Бруссард подошел ближе.
— Думаешь, Малыш Дэвид раскололся насчет товара?
Пул осторожно отпустил голову Кимми и цокнул языком.
— Жадный был ублюдок. — И оглянулся через плечо на нас. — Не то чтобы я плохо о покойниках, но… — Он пожал плечами.
— Малыш Дэвид со своей прежней подружкой года два-три назад вломились в аптеку, забрали демерол, дарвон, валиум и так далее. В общем, копы подъезжают, эти красавцы выскакивают через черный ход и спрыгивают с пожарной лестницы в переулок с высоты второго этажа. Девица повредила себе голеностоп. Малыш Дэвид забрал у нее товар и бросил в переулке.
Сначала Большой Дэвид. Теперь Малыш Дэвид. Пора перестать называть детей Дэвидами.
Я оглядел кухню. Плитка с пола была сорвана, кухонные полки пустовали. На полу валялись банки с консервами и пустые пакеты из-под картофельных хлопьев. Панели фальш-потолка громоздились на куче побелки возле кухонного стола. Газовая плита и холодильник были отодвинуты от стены, дверцы буфета раскрыты.
Убийцы основательно здесь все обыскали.
— Хочешь позвонить в полицию? — спросил Бруссард.
Пул пожал плечами.
— Может, сначала сами все тут осмотрим?
Пул достал из кармана несколько тонких перчаток, разделил их и раздал нам каждому по паре.
В спальне и ванной царил такой же разгром: все перевернуто вверх дном, вспорото, вывалено на пол. Впрочем, по сравнению с тем, что я видел в домах других наркоманов, тут было не многим хуже.
— Телевизор, — сказала Энджи.
Я выглянул из спальни, в это время Пул вышел из столовой, а Бруссард — из ванной.
— Никому не пришло в голову посмотреть в нем.
— Наверное, потому что он включен, — сказал Пул.
— И что?
— Сложно спрятать внутри двести тысяч баксов и ничего при этом не испортить, — сказал Бруссард. — Вам не кажется?
Энджи пожала плечами и посмотрела на экран, где Джерри Спрингер усмирял гостей в студии, и прибавила громкость.
Одна дама назвала другую шлюхой, а зрителя, ищущего развлечений, — грязной собакой.
Бруссард вздохнул:
— Поищу отвертку.
Джерри Спрингер понимающе оглядел зрителей. Те зашумели. То и дело повторялся писк, заглушавший нецензурное.
Сзади послышался голос Хелен:
— О, круто! Время Спрингера.
Бруссард нашел в ванной крошечную отвертку с красной резиновой рукояткой.
— Мисс Маккриди, — сказал он, — будьте добры подождать снаружи.
Хелен, не отводя глаз от экрана, села на краешек рваного футона.
— Там женщина ругается из-за кошек. Говорит, вызовет полицию, — сказала она.
— Вы ей сказали, что мы из полиции?
На экране разгоралась бабья драка. Хелен рассеянно улыбнулась.
— Сказала. Говорит, что все равно вызовет.
Бруссард махнул отверткой и кивнул Энджи. Телевизор выключили как раз на очередном долгом писке.
— Блин! — Хелен потянула носом воздух. — Да тут запашок.
— Одеколон нужен?
Она покачала головой:
— Да нет. У моего прежнего дружка в прицепе еще хуже воняло. Имел привычку грязные носки в мойке оставлять. Вот там был запах, я вам доложу.
Пул поднял голову, как бы собираясь что-то сказать, но посмотрел на Хелен, передумал и безнадежно выдохнул.
Бруссард отвинтил кожух на задней стенке телевизора, мы вместе сняли его и заглянули внутрь.
— Есть что-нибудь?
— Кабели, провода, встроенные динамики, мотор, кинескоп, — отчитался Бруссард.
Мы снова приложили кожух к телевизору.
— Пристрелите меня, — сказала Энджи, — сегодня это была не худшая идея.
— Ну что вы. — Пул выставил руки.
— Но и не лучшая, — сказал Бруссард, держа шуруп в зубах.
— Что? — не поняла Энджи.
Бруссард невнятно улыбнулся.
— Гм?
— Вы не могли бы включить? — попросила Хелен.
Пул посмотрел на нее, сощурился и покачал головой.
— Патрик.
— Да.
— Тут за домом дворик. Вы не отведете туда мисс Маккриди? Мы тут пока сами закончим.
— А передача? — сказала Хелен.
— А я вам скажу, что там запикали, — сказал я. — Шлюха. Грязная собака. Пи-ип.
— Бессмыслица получается.
— Ага, — покладисто согласился я.
У двери в кухню Пул сказал:
— Закройте глаза, мисс Маккриди.
— Что? — Хелен попятилась.
— Вам это видеть ни к чему.
Но остановить ее мы не успели, Хелен проворно заглянула Пулу через плечо. Он посторонился.
Хелен вошла в кухню и остановилась. Я думал, она закричит, грохнется в обморок или бросится обратно в гостиную.
— Они что, мертвые?
— Ага, — сказал я. — Очень.
Она пошла по кухне к черному ходу. Я взглянул на Пула. Он поднял бровь.
Проходя мимо Малыша Дэвида, Хелен остановилась и посмотрела на рану в груди.
— Прямо как в кино.
— В каком?
— Где пришельцы вылезают у людей из грудных клеток и истекают кислотой. Как оно называется?
— «Пришельцы», — подсказал я.
— Точно. Они у людей из грудных клеток выбирались. Но кино-то как называется?
Энджи сбегала в «Данкин Донатс» и через несколько минут присоединилась к нам с Хелен. Пул и Бруссард пошли по дому с блокнотами и камерами.
Двор был как двор. У меня в спальне встроенный шкаф больше. Малыш Дэвид и Кимми вынесли сюда ржавый железный столик и стулья, мы сидели и слушали жизнь. День, приближаясь к вечеру, истекал кровью, становилось свежо, матери звали домой детей, рабочие на стройке по другую сторону дома бурили перфораторами кладку, где-то неподалеку играли в уифл-болл.
Хелен через трубочку потягивала кока-колу.
— Очень их жалко. Такие приятные люди.
Я отхлебнул кофе.
— Сколько раз вы с ними встречались?
— Вот только тогда, один раз.
— Не припомните ли чего-нибудь особенного в тот вечер?
Хелен задумчиво залипла в трубочку.
— Все эти кошки. Они были типа везде. Одна Аманде руку оцарапала, зараза. — Она улыбнулась нам в глаза. — То есть кошка зараза, конечно.
— Так Аманда была в доме с вами?
— Наверное. — Хелен пожала плечами. — Конечно.
— Я ведь почему спрашиваю, раньше вы говорили, что могли оставить ее в машине.
Хелен снова пожала плечами, и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы обеими руками не опустить ей плечи на место.
— Да? Знаете, вспомнила, что кошка ее оцарапала, а до тех пор сомневалась. Нет, Аманда была в доме.
— Что-нибудь еще помните? — Энджи забарабанила пальцами по столу.
— Она была такая милая.
— Кто? Кимми?
Хелен указала на меня пальцем и улыбнулась.
— Да. Это ее так звали, Кимми. Она была крута! Увела нас с Амандой к себе в спальню, показывала свои фотографии в Диснейленде. Аманда прям совсем обалдела. По дороге домой только и ныла: «Мам, а мы поедем смотреть Микки и Минни?», «А мы поедем в Диснейленд?». — Хелен фыркнула. — Дети. Как будто у меня на это есть деньги.
— В этот дом вы входили с двумя сотнями тысяч долларов.
— Но это для сделки Рея. Сама бы я такое не провернула. Я же не Сыр Оламон. Рей сказал, что в нужный момент подключится. Он меня никогда не обманывал, поэтому я считала это его сделкой. А если Сыр узнает, то и проблемы будут тоже у Рея. — И она снова пожала плечами.
— Мы с Сыром старые знакомые, — сказал я.
— Да?
Я кивнул.
— И с Крисом Малленом тоже. Все вместе играли в Малыша Рута,[16] вместе торчали на углу и так далее.
Хелен удивленно подняла брови:
— Правда, что ль?
Я поднял руку:
— Богом клянусь. И Сыром. Хелен, вы хоть представляете, что он сделает, если поймет, что его обули?
Она взялась было за стаканчик с содовой, но поставила его на прежнее место.
— Слушайте, я же вам уже сказала, это все Рей. Я ничего не делала, только пошла в номер мотеля с…
— Сыру — а нам тогда было лет по пятнадцать, совсем дети, — как-то раз показалось, что его подружка загляделась на другого. Так он разбил пивную бутылку о фонарный столб и розочкой располосовал девице всю физиономию. Нос оторвал ей, Хелен. Это был Сыр в пятнадцать. Каков он, по-вашему, теперь?
Она мусолила соломинку, пока кусочки льда не застучали на дне стакана.
— Это сделка Рея…
— Думаете, он убьет вашу дочку и сна лишится? — сказала Энджи. — Хелен! — Энджи потянулась через стол и ухватила Хелен за мосластое запястье. — Так вы думаете?
Энджи смотрела на нее с полминуты, потом покачала головой и выпустила руку.
— Хелен, позвольте вас спросить.
Хелен потерла запястье и посмотрела на стаканчик.
— Да.
— Вы с какой именно долбаной планеты сюда свалились?
Хелен промолчала.
Вокруг нас красиво умирала осень. Полыхали ярко-желтые и красные краски, листья, оранжевые с восковым налетом и зеленые с оттенком ржавчины, слетали с ветвей на траву. Этот волнующий запах отмирания, столь характерный для осени, наточил лезвия воздуха, и они прорезали нашу одежду и заставляли нас напрягать мышцы и шире раскрывать глаза. Нигде смерть не наступает так зрелищно, так гордо, как в октябре в Новой Англии. Солнце, вырвавшись из туч, грозивших с утра дождем, превратило окна в невыносимо яркие прямоугольники и придало кирпичу домов, рядом окружавших дворик, туманный оттенок в тон самым темным листьям. Смерть, думал я, совсем не это. Смерть в доме рядом с нами. Смерть — это разгромленная кухня Малыша Дэвида и Кимми. Смерть — это черная засохшая кровь и неверные кошки, готовые жрать что попало.
— Хелен, — сказал я.
— Что?
— Когда вы в комнате Кимми смотрели фотографии из Диснейленда, где были Малыш Дэвид и Рей?
Хелен слегка приоткрыла рот.
— Быстро говорите. Не раздумывайте.
— На заднем дворе.
— На заднем дворе. — Энджи указала в землю. — Здесь.
Хелен кивнула.
— Вы видели задний двор из спальни Кимми? — спросил я.
— Нет. Жалюзи были опущены.
— Тогда откуда вы знаете, что они находились тут?
— Когда мы уходили, у Рея ботинки были в грязи, — медленно проговорила она. — Рей — неряха во многом. — Она потянулась и тронула меня за руку, будто собиралась поделиться чем-то глубоко личным. — Но, господи, знали бы вы, как он заботится о своей обуви!
«Две сотни ш + хладнокровие = Ребенок».
— Две сотни шуток? — спросила Энджи.
— Две сотни штук, — спокойно подтвердил Бруссард.
— Где вы нашли записку? — спросил я.
Он взглянул через плечо на дом.
— Свернули в трубочку и заткнули Кимми за резинку кружевных чулок. По-моему, удачно выбрали место.
Мы стояли на заднем дворе.
— Здесь, — сказала Энджи, указывая на небольшой холмик рыхлой земли под засохшим вязом. Помимо этой единственной неровности вся почва вокруг была ровная, как пятак.
— Верю вам, мисс Дженнаро, — сказал Бруссард. — Итак, что будем делать?
— Копать, — сказал я.
— И конфисковать, чтобы стало достоянием гласности, — добавил Пул. — И с помощью журналистов привяжем к исчезновению Аманды Маккриди.
Я осмотрел сухую траву и свернувшиеся бордовые листья.
— Тут последнее время никого не было.
Пул кивнул.
— Ваше заключение?
— Если зарыто здесь, — я указал на холмик, — значит, Малыш Дэвид придержал товар для себя, хоть Кимми и пытали, и зарезали у него на глазах.
— Никто и не обвинял Малыша Дэвида в намерении вступить в Корпус мира, — сказал Бруссард.
Пул подошел к дереву, поставил ступни по разные стороны от холмика и, глядя на него, задумался.
В гостиной в двух шагах от раздувшихся трупов сидела Хелен и смотрела телевизор. Спрингер уступил место Джеральдо, или Сэлли, или какому-нибудь еще распорядителю циркового представления, гремящему боталом для балаганных уродцев. Публичная «терапия» исповедей, последовательное размывание значения слова «травма», постоянная смена придурков, вопиющих в пустоту с возвышения кафедры.
Хелен, впрочем, было все равно. Она только пожаловалась на запах и спросила, нельзя ли открыть окно. Никто из нас не смог придумать благовидного повода отказать ей в этом, а уж открыв, оставили ее перед экраном, мерцающие серебряные отсветы которого подсвечивали ей лицо.
— Итак, мы выходим из игры, — сказала Энджи со спокойным грустным удивлением в голосе, постоянным спутником расслабления, наступающего с неожиданным окончанием дела.
Я думал об этом. Теперь мы определенно имели дело с похищением ребенка, тут была и записка с требованием выкупа, и подозреваемые с понятным мотивом. Теперь расследованием займется ФБР, а мы, как и прочий электорат, сможем следить за ним по телевизионным новостям и будем ждать появления Хелен вместе с другими родителями, потерявшими своих детей, в программе Спрингера.
Я протянул руку Бруссарду:
— Энджи права. Приятно было с вами работать.
Бруссард пожал мне руку, кивнул, но ничего не сказал и посмотрел на Пула.
Тот тыкал носком ботинка небольшой земляной холмик, но смотрел на Энджи.
— Выходим из игры, — повторила Энджи, обращаясь к Пулу. — Так ведь?
Пул некоторое время выдерживал ее взгляд, затем посмотрел на холмик. Минуты две все молчали. Я понимал, что нам надо идти. Энджи понимала, что нам надо идти. Тем не менее мы не уходили, стояли как вкопанные в этом крошечном дворике с засохшим вязом.
Я обернулся к уродливому дому позади нас. В окно мне была видна голова Малыша Дэвида и спинка стула, к которому его привязали. Чувствовал ли он лопатками спинку дешевого стула из ивняка? Было ли это его последним ощущением перед тем, как выстрел из дробовика разнес ему грудь, будто она была из папиросной бумаги? Или он успел почувствовать, как кровь стекает к связанным запястьям, а пальцы синеют и теряют чувствительность?
Люди, последними при его жизни вошедшие в этот дом, знали, что убьют Кимми и Малыша Дэвида. Казнь на кухне проведена руками профессионалов. Кимми перерезали горло в последней надежде заставить Малыша Дэвида заговорить, но ножом воспользовались и из соображений благоразумия. Соседи почти всегда воспринимают одиночный выстрел как нечто со стрельбой не связанное — хлопок автомобильного двигателя, а то и падение на пол фарфоровой вазы. Особенно если звук доносится из дома, где живут наркоманы или наркодилеры — не самые тихие и законопослушные соседи. Человеку не хочется верить, что это действительно выстрел, что он слышал, как произошло убийство. Поэтому Кимми убили быстро, тихо и, вероятно, без предупреждения. Но Малыша Дэвида некоторое время пугали, наставляя на него дробовик. Хотели, чтобы он увидел, как палец охватывает курок, чтобы слышал, как боек ударяет в капсюль и, взрываясь, воспламеняется порох.
Эти-то люди и удерживали у себя Аманду Маккриди.
— Хотите предложить двести тысяч за девочку? — спросила Энджи.
Вот оно. То, что я предчувствовал последние пять минут. То, что не хотели произносить Пул и Бруссард. Вопиющее нарушение полицейских инструкций. Пул разглядывал ствол мертвого дерева. Бруссард носком ботинка приподнял красный лист с зеленой травы.
— Так? — сказала Энджи.
Пул вздохнул.
— Я бы предпочел, чтобы похитители не открывали чемодан, набитый газетами или мечеными купюрами и убили ребенка прежде, чем мы до них доберемся.
— У вас так бывало? — спросила Энджи.
— Бывало с делами, которые я передавал ФБР. У нас это как раз такой случай, мисс Дженнаро. Похищениями детей занимаются федеральные органы.
— Мы передаем дело туда, — сказал Бруссард, — деньги идут в сейф для вещественных доказательств, федералы ведут переговоры с похитителями и получают возможность показать, какие они умные.
Энджи оглядела крошечный дворик, отмирающие лепестки фиалок, проросших с той стороны сквозь сетку изгороди.
— Вы бы хотели вести переговоры с похитителями вдвоем, без участия федералов.
Пул сунул руки в карманы:
— Я, мисс Дженнаро, находил слишком много мертвых детей в чуланах.
Энджи взглянула на Бруссарда:
— А вы?
Он улыбнулся.
— Ненавижу федералов.
— Дело обернется плохо, — сказал я, — и вы, ребята, своих пенсий лишитесь. А то и еще хуже будет.
В другом конце дворика на третьем этаже дома открылось окно, какой-то тип вывесил коврик и стал выбивать его хоккейной клюшкой с отломанным крюком. Заклубилась пыль, но его это не смущало, как будто нас тут не было.
Пул присел на корточки и сорвал рядом с холмиком травинку.
— Вы помните дело Джинни Миннелли? Пару-тройку лет назад.
Мы пожали плечами. Оторопь берет, сколько всего ужасного забываешь.
— Девятилетняя девочка, — сказал Бруссард. — Каталась на велосипеде в Самервилле и исчезла.
Я кивнул. Что-то такое действительно было.
— Мы нашли ее, мистер Кензи, мисс Дженнаро. — Пул накрутил травинку на пальцы и разорвал сразу в двух местах. — В бочке. С цементным раствором. Он еще не затвердел, гении, убившие девочку, смешали воду и цемент в неподходящей пропорции. — Он хлопнул в ладоши, стряхивая с них пыльцу, или грязь, или просто ему так захотелось. — Мы нашли тело девятилетнего ребенка в бочке с цементным раствором. — Он встал. — Приятно слушать? — Я взглянул на Бруссарда. Он побледнел, руки его затряслись, и он засунул их в карманы, а локти прижал к бокам.
— Нет, — сказал я, — но если тут дело пойдет наперекосяк, вы…
— Что? — перебил меня Пул. — Льготы потеряю? Мне скоро на пенсию, мистер Кензи. Знаете, что может сделать профсоюз полицейских с теми, кто пытается отобрать пенсионные деньги у своего коллеги, имеющего награды и с выслугой тридцать лет? Это все равно что наблюдать за голодными собаками, хватающими мясо, подвешенное к мужской мошонке. Неприятное зрелище.
Энджи усмехнулась:
— Но у вас-то совсем другая ситуация, Пул.
Он тронул ее за плечо.
— Я — вышедший из строя старик, от меня сбежали три жены, мисс Дженнаро. Я — ничто. Но из своего последнего дела мне бы хотелось выйти победителем. Я мечтаю взять Криса Маллена и засадить Сыра Оламона на максимальный срок.
— А если не выйдет выиграть?
— Тогда напьюсь до смерти. — Пул убрал руку и провел ею по своим коротко стриженным жестким волосам. — Дешевой водкой. Это самое лучшее, что можно будет себе позволить на пенсию полицейского. Как вам такая идея?
Энджи улыбнулась:
— Нормально, Пул. Вполне.
Пул взглянул через плечо на типа, выбивавшего коврик, потом на нас.
— Мистер Кензи, видели садовую лопату в прихожей?
Я кивнул.
Пул улыбнулся.
— О, — сказал я. — Верно.
И пошел в дом за лопатой. Обратно я шел через гостиную. Хелен спросила:
— Скоро уже пойдем?
— Уже совсем скоро.
Она посмотрела на лопату и перчатки у меня на руках.
— Нашли деньги?
Я пожал плечами:
— Может, еще найдем.
Она кивнула и снова уставилась в телевизор.
Я было пошел на двор, но в дверях кухни меня остановил ее голос:
— Мистер Кензи.
— Да.
Ее глаза так мерцали в свете, исходившем от экрана, что напомнили мне кошек.
— Они ведь не тронут ее, правда?
— Вы имеете в виду Криса Маллена и остальных из команды Сыра Оламона?
Хелен кивнула.
В телевизоре одна женщина сказала другой:
— Ты, лесба, держись подальше от моей дочери.
Зрители заулюлюкали.
— Не тронут? — повторила Хелен, не отрываясь от экрана.
— Тронут, — сказал я.
Надо было бы сказать ей, что я шучу. Что с Амандой все будет хорошо. Что она вернется и все станет на свои места, а Хелен сможет и дальше пьянеть от телевизора, и спиртного, и героина, и от чего угодно, чем захочет отгородиться от мира, каким бы отвратительным он ни был.
Но ее дочь по-прежнему была неизвестно где, не с матерью, напуганная, пристегнутая наручниками к батарее отопления или к спинке кровати. Рот заклеен скотчен. Или ее уже не было в живых. Причиной этого отчасти послужило потворство Хелен своим слабостям, ее склонность делать то, что хочется, не заботясь о последствиях, отсутствие препятствий для этого и достойного противодействия.
— Хелен, — сказал я.
Она стала закуривать, но никак не могла поднести пламя к кончику сигареты, несколько раз промахивалась.
— Что?
— Вы наконец поймете, что произошло?
Она посмотрела на экран, потом снова на меня. Глаза были влажные и покраснели.
— Что?
— Вашу дочь похитили. Из-за того, что вы украли. Тем, кто ее удерживает, глубоко на нее насрать. И Аманду могут не отдать.
Две слезинки скатились по щекам Хелен, и она утерла их тыльной стороной ладони.
— Знаю, — сказала она, продолжая следить за происходящим на экране. — Я не дура.
— Нет, дура! — сказал я и вышел на задний двор.
Мы стали вокруг холмика, загородив его своими телами от окон соседних домов. Бруссард копнул несколько раз, показался сморщенный зеленый пластиковый пакет. Он выгреб из ямки еще земли, и Пул, оглянувшись по сторонам, нагнулся и потянул за верхушку пакета.
Его даже не завязали, просто перекрутили несколько раз. Взявшись за скрученную часть и держа пакет на весу, Пул дал ему раскрутиться. Складки с шелестом расправились, пакет стал шире. Пул бросил его на землю, пакет приоткрылся, и стало видно содержимое.
В нем лежали старые, потертые купюры, главным образом по сто и пятьдесят долларов.
— Большие деньги, — заметила Энджи.
Пул покачал головой:
— Это, мисс Дженнаро, цена Аманды Маккриди.
До приезда команды судебно-медицинских экспертов мы выключили телевизор в гостиной и рассказали о находке Хелен.
— Вы отдадите деньги в обмен на Аманду? — спросила она.
Пул кивнул.
— И она будет живая?
— Надеемся, да.
— А мне что придется делать?
Бруссард присел на корточки перед Хелен.
— Вам ничего не придется делать, мисс Маккриди. Вам только надо сейчас решить. Мы четверо, — он махнул рукой в нашу сторону, — считаем, что это подход правильный. Но если мое начальство узнает о наших планах, меня отстранят от дела или уволят. Вы понимаете?
Хелен неуверенно кивнула:
— Если узнают, захотят арестовать Криса Маллена.
Бруссард кивнул.
— Возможно. Или, а мы именно так и считаем, для ФБР поимка похитителей окажется важнее безопасности вашей дочери.
— Мисс Маккриди, — сказал Пул, — главное тут — ваше решение. Если хотите, мы сейчас же заявим о находке, сдадим деньги, и пусть этим делом дальше занимаются профессионалы.
— Другие люди? — Хелен взглянула на Бруссарда.
Он прикоснулся к ее руке.
— Да.
— Я не хочу, чтобы другие. Я не… — Она с некоторым трудом поднялась на ноги. — Что мне надо делать, чтобы вышло по-вашему?
— Помалкивать. — Бруссард поднялся с корточек. — Не говорите ничего ни журналистам, ни полиции. Даже Лайонелу и Беатрис не рассказывайте.
— Будете говорить с Сыром?
— Это, наверное, наш следующий шаг, — сказал я.
— Все козыри сейчас на руках у мистера Оламона, — сказал Бруссард.
— А что, если типа последить за Крисом Малленом? Может, он, сам того не зная, выведет на Аманду.
— Этим тоже займемся, — сказал Пул. — Но у меня такое чувство, что они это предусмотрели. По-моему, Аманду надежно спрятали.
— Скажите ему, что я прошу прощения.
— Кому?
— Сыру. Скажите, что я ничего плохого не хотела. Я просто хочу, чтобы он вернул мою девочку. Скажите, чтобы не обижал ее. Сможете? — Она взглянула на Бруссарда.
— Конечно.
— Есть хочется, — сказала Хелен.
— Сейчас добудем вам…
— Нет, не мне. Не мне. Так Аманда говорила.
— Что? Когда?
— Когда я укладывала ее спать в тот вечер. Это последние ее слова, которые я от нее слышала: «Мам, есть хочется». — Глаза Хелен наполнились слезами. — А я ей: «Не беспокойся, детка. Утром поешь». Они ведь ее кормят, правда? Она ведь там у них не голодная? — Хелен взглянула на меня. — Правда же?
— Не знаю, — сказал я.
Сыр Оламон был из скандинавской семьи — рост метр восемьдесят восемь, вес сто девяносто пять килограммов, — но непонятным образом возомнил себя чернокожим. Хоть он и колыхался, как студень, во время ходьбы, из одежды предпочитал флисовые и хлопковые тренировочные костюмы, было бы опрометчиво считать его увальнем, неспособным к резким движениям.
Сыр много улыбался, а в присутствии некоторых людей его, казалось, охватывала неподдельная радость. Несмотря на то что от его выражений, как бы в духе Шафта,[17] многие морщились, было в нем что-то подкупающее и заразительное. Вы слушали его и спрашивали себя: не является ли этот жаргон, на котором в жизни после фильма Фреда Уильямсона и Антонио Фаргаса не говорят ни чернокожие, ни белые, странным проявлением любви к культуре негритянских гетто, расистскому безумию или и тому и другому сразу. Как бы то ни было, иногда у Сыра выходило очень заковыристо.
Но знал я также Сыра, который как-то вечером глянул на парня в баре с такой спокойной враждебностью, что сразу стало ясно, что жить тому осталось минуты полторы. Я знал Сыра, который брал на работу доходяг героинщиц. Они сдавали ему выручку, скатанные в рулончики купюры, стояли, прислонившись к его машине, а он похлопывал их по костлявым задам и снова отправлял на работу.
И вся выпивка, которой он угощал собравшихся в баре, все пятерки и десятки, которые он совал алкашам и потом вез их покупать на эти деньги китайскую еду, все индейки, которых он раздал беднякам в квартале на Рождество, не могли искупить его вину за наркоманов, умиравших в подъездах с торчащими из рук шприцами; молодых женщин, превращавшихся, казалось, за один только вечер в старух с кровоточащими деснами, побирающихся в метро на лечение азидотимидином.[18] Их телефоны он собственноручно вычеркивал из своих записных книжек.
Ущербный от природы и в силу жизненных обстоятельств, Сыр в младших классах школы был хил и мал. Под дешевой тканью белой рубашки угадывались ребра, как суставы под кожей на старческих руках. Иногда у него бывали такие приступы кашля, что дело кончалось рвотой. Говорил Сыр мало. Друзей у него не было, во всяком случае, я таковых не помню, и, тогда как почти все приносили еду из дома в контейнерах для ланча с надписью «Эдам-12» или «Барби», Сыр для этой цели использовал пакет из коричневой бумаги, который, покончив с едой, аккуратно складывал и уносил домой, пакетом еще можно было не раз воспользоваться.
В младших классах каждое утро мать с отцом приводили Сыра к школьным воротам. Прежде чем отпустить его, они поправляли ему волосы или галстук, возились с пуговицами тяжелого крестьянского пальто и говорили на непонятном языке — их резкие голоса разносились по школьному двору. Потом родители шли обратно по проспекту — оба великаны, — мистер Оламон в атласной мягкой шляпе, какие к тому времени вышли из моды уж лет пятнадцать назад, с оранжевым пером за лентой на тулье. Голову он держал несколько набок, будто ждал насмешек или что со второго этажа на них с женой сбросят какую-нибудь дрянь. Сыр провожал их взглядом и, если мать останавливалась подтянуть на массивной икре съехавший чулок, морщился.
Почему-то воспоминания о Сыре и его родителях связаны у меня с ярким солнцем начала зимы: вот на фотоснимке стоит нескладный мальчик у ограды школьного двора, покрытого полузамерзшими лужами. Он смотрит вслед родителям, идущим понурив плечи под дрожащими черными деревьями.
Сыру пришлось хлебнуть немало дерьма, его неоднократно лупили за акцент, который у него был значительно менее выражен, чем у родителей, за деревенскую одежду, за мыльно-желтоватый оттенок кожи, напоминавший плохой сыр. Отсюда и прозвище.
Когда Сыр учился в седьмом классе школы прихода Святого Барта, его отец, работавший вахтером в престижной школе в Бруклине, попал под суд за рукоприкладство: сломал руку и нос десятилетнему ученику, плюнувшему на пол. Отец ученика был нейрохирургом в Массачусетской больнице и адъюнкт-профессором Гарварда, Оламону грозило суровое наказание. В тот год Сыр вырос за пять месяцев на двадцать пять сантиметров. На следующий — его отец получил от трех до шести лет тюрьмы, а Сыр стал огромен.
Четырнадцать лет издевательств пошли в мускульную массу, четырнадцать лет насмешек, унижений и проглоченных обид аукнулись камнями в желчном пузыре.
Летом после восьмого класса пришло Сыру Оламону время вернуть долги. Кому-то он подправил кулаком челюсти, кому-то переломал носы и руки. Карл Кокс, давний и жестокий мучитель Сыра, получил по голове здоровенным камнем, сброшенным с крыши «трехпалубного» дома, который оторвал ему половину уха. После этого Карл на всю жизнь остался заикой.
Получали от Сыра в нашем выпускном классе не только мальчики. Несколько девочек — а им тогда было по четырнадцать — носили в то лето повязки на носах или ходили к стоматологу в связи с выбитыми или сломанными зубами.
Уже тогда Сыр умел разбираться в людях. Он правильно рассчитывал, и на тех, кто слишком робок или слаб, чтобы оставить его безнаказанным, нападал открыто. Особенно же доставалось тем, кто мог обратиться в полицию или сказать родителям, эти даже не понимали, кто является причиной их страданий.
Среди тех, кому не пришлось испытать на себе месть Сыра, были Фил, Энджи и я. Мы никогда не издевались над ним, возможно, потому что у каждого из нас хотя бы один из родителей был иммигрантом. И еще Сыр не трогал Буббу Роговски. Не помню, были у них вообще с Буббой потасовки или нет, но, даже если и были, Сыру хватило ума сообразить, что если он будет немецкой армией, то Бубба станет русской зимой. Сыр предпочитал действовать на тех фронтах, где победа была гарантирована. В присутствии Буббы он делался льстивым и подобострастным, доходило даже до того, что кормил собак Буббы, когда тот уезжал за океан заключать сделки на покупку разного рода оружия.
Это, Бубба, тебе. Люди, наводящие страх на нас с вами, кормят его собак.
— Мать поместили в психиатрическую больницу, когда гражданину было семнадцать лет, — прочел Бруссард в деле Сыра Оламона. Пул в это время вел машину мимо заповедника «Уолден Понд» к тюрьме Конкорд. — Год спустя отец вышел на свободу из Норфолка и исчез.
— Говорят, Сыр его и убил, — сказал я, полулежа на заднем сиденье и глядя в окно, на проплывающие мимо знаменитые деревья Конкорда.
После того как Бруссард и Пул сообщили о двойном убийстве в доме Малыша Дэвида, мы с Энджи забрали пакет с деньгами, отвезли Хелен к Лайонелу и Беатрис и поехали на склад к Буббе.
Два часа пополудни — для него самое время сна, он показался в дверях в огненно-красном японском кимоно и с несколько сердитым выражением на заспанном лице херувима.
— Зачем разбудили? — спросил он.
— Нужен твой сейф, — ответила Энджи.
— У вас свой есть. — Он сердито посмотрел на меня.
— У нас нет минного поля.
Он протянул руку, и Энджи отдала ему пакет.
— Что тут?
— Двести тысяч.
Бубба кивнул, будто речь шла о бабушкиных теплых вещах. Мы могли бы сказать «доказательства посещения Земли представителями внеземных цивилизаций» — реакция была бы та же. Иное дело, если бы его застукали на свидании с Джейн Сеймур.
Энджи достала из сумки фотографии Корвина Орла, Леона и Роберты Третт и раскрыла веером.
— Знаешь кого-нибудь?
— Да будь я проклят.
— Точно?
Он покачал головой:
— Никого. А что это за волосатая обезьяна?
Энджи вздохнула и убрала фотографии в сумку.
— Двое других сидели, никогда не встречал их, но и так сразу видно. — Он зевнул, кивнул и захлопнул перед нами дверь.
— Пока он мотал срок, нисколько по нему не скучала, — сказала Энджи.
— До чего поучительная состоялась беседа! — заметил я.
Энджи подвезла меня домой, где я остался ждать Пула и Бруссарда, а сама поехала к дому Криса Маллена. Это задание она выбрала себе сама, поскольку не любила бывать в мужских тюрьмах. Кроме того, Сыр до нее докапывается, все краснеет и спрашивает, с кем она последнее время встречается. Я поехал с Пулом и Бруссардом, считалось, что я Сыру вроде бы друг, а сам он, как всем известно, с людьми в синей форме не сотрудничает.
— Подозревается в убийстве некоего Джо Джо Макдэниела в 1986 году, — сказал Бруссард после поворота на Второе шоссе.
— Наставник Сыра в торговле наркотиками, — сказал я.
Бруссард кивнул.
— Подозревается в причастности к исчезновению и убийству Дэниела Калеба в 1991 году.
— О таком не слышал.
— Это бухгалтер. — Бруссард перевернул страницу. — Предположительно вел бухучет у нескольких отвратительных личностей.
— Сыр поймал его с поличным, тот запустил лапу в кассу.
Пул, глядя в зеркало заднего вида, встретился со мной взглядом.
— Ну и связи у вас, Патрик, с преступным элементом.
Я выпрямился.
— Это намек?
— Дружите с Сыром Оламоном и Крисом Малленом, — сказал Бруссард.
— Они мне не друзья. Просто росли вместе.
— Вы, кажется, и с покойным Кевином Херлихи тоже вместе росли? — Пул остановил машину на левой полосе, ожидая перерыва в движении транспорта по Второму шоссе в противоположную сторону, чтобы пересечь его и свернуть на дорогу, ведущую к тюрьме.
— Насколько я знаю, Кевин не считается пропавшим, — сказал я.
Бруссард обернулся с пассажирского сиденья:
— И давайте не забудем печально известного мистера Роговски.
Я пожал плечами. Для меня было не ново, что, узнавая о нашем знакомстве, люди удивленно поднимают брови. Особенно полицейские.
— Бубба — друг, — сказал я.
— Друган, — сказал Бруссард. — Правду говорят, что у него склад заминирован?
Я пожал плечами:
— Загляните к нему как-нибудь, узнаете.
Пул усмехнулся.
— Вот и выйдешь пораньше на пенсию. — Он свернул на щебневую дорогу, ведущую к тюрьме. — Просто вы еще из того квартала, Патрик, только и всего. Тот еще квартал.
— Нас тут просто неправильно понимают, — сказал я. — У нас у всех там сердца просто золотые.
Мы вышли из машины. Бруссард потянулся и сказал:
— Оскар Ли говорит, вы судящих недолюбливаете.
— Кого? — переспросил я, оглядывая тюремные стены. Типично для Конкорда: даже тюрьма выглядит привлекательно.
— Судящих, — повторил Бруссард. — Оскар говорит, вы терпеть не можете тех, кто судит других.
Я проследил взглядом за идущей по верху стены спиралью колючей проволоки. Она показалась мне вовсе не привлекательной.
— Потому, говорит он, вы и общаетесь с таким психом, как Роговски, поддерживаете отношения с Сыром Оламоном и ему подобными.
Я сощурился от яркого солнца.
— Нет, — сказал я. — У меня неважно выходит судить о людях. Но то и дело приходится.
— И? — сказал Пул.
Я пожал плечами.
— Потом дурной вкус во рту остается.
— Так вы неверно судите? — небрежно спросил Пул.
Я вспомнил, как два часа назад Хелен вся сжалась, когда я назвал ее дурой. Я покачал головой:
— Нет, сужу я верно. Но дурной привкус во рту все равно остается. Вот и все.
Я сунул руки в карманы и пошел ко входу в тюрьму, прежде чем Пул и Бруссард успели придумать, что бы еще спросить о моем характере или отсутствии такового.
Начальник тюрьмы выставил часовых у двух калиток в небольшой двор для свиданий, куда к нашему приезду уже привели Сыра. Других заключенных не было, Бруссард и Пул заранее попросили устроить нам разговор без посторонних.
— Ха, Патрик, как он у тебя, все висит? — прокричал издали Сыр. Он стоял у фонтанчика для питья. Рядом с таким желтоволосым китом-убийцей, как Сыр, фонтанчик казался Т-образной подставкой для мяча на поле для гольфа.
— Все нормально, Сыр. Славный денек.
— Славный, твою мать, брат. — Он приветственно стукнул меня кулаком по руке. — Денек вроде этого, как хорошая п…, «Джек Дэниелс» и пачка «Кул» сразу. Понимаешь, о чем я?
Я не понимал, но улыбнулся. С Сыром иначе нельзя: надо кивать, улыбаться и ждать, когда он перейдет к делу.
— Черт. — Сыр покачнулся назад, стоя на пятках. — А с тобой и закон! Какие люди! — закричал он. — Кто это к нам пришел?! Пул и… — Сыр щелкнул пальцами. — Бруссард. Верно? Я думал, вы ушли из наркоборцев.
Пул улыбнулся, щурясь на солнце.
— Ушли, мистер Сыр, сэр. Конечно, ушли. — Он указал на корку длинной подживающей раны на подбородке у Сыра, вероятно след от зазубренного лезвия. — Вы и здесь себе врагов нажили?
— Это-то? Ерунда. — Сыр перекатил глаза на меня. — Еще не родился такой урод, чтобы Сыра урыть.
Бруссард усмехнулся и ковырнул землю носком левого ботинка.
— Да, Сыр, конечно. Вы, наверное, говорили черным рэпом и рассердили тут какого-нибудь брата, а он не любит белых, которые точно не знают, какого они цвета. Так?
— Эх, Пул, — сказал Сыр, — что такой крутой-как-тачка-кот, как ты, делает с этим убойновесным-подгузникоголовым-уродом-который-без-карты-свою-собственную-ж…-найти-не-может?
— Навещаю падших в узилище, — ответил Пул.
— Говорят, у тебя сумка нала пропала, — сказал Бруссард.
— Говорят? — Сыр потер подбородок. — Гм. Что-то не припомню, офицер, но раз у вас на руках сумка с налом и вы хотите разгрузиться, буду рад вас от нее избавить. Отдайте Патрику, он ее подержит, пока я не выйду.
— Ох, Сыр, — сказал я, — это так трогательно.
— Мы ж свои люди, я ведь знаю, у тебя говно что надо. Как брат Роговски?
— Хорошо.
— Сукин сын отбыл год. В Плимуте вроде. Там на зоне братва до сих пор трясется. Боятся, что вернется, ему там, кажись, понравилось.
— Не вернется, — сказал я. — Целый год телик не смотрел, теперь наверстывает.
— Как там собачки поживают? — прошептал Сыр, будто тайной делился.
— Белкер погиб с месяц назад.
Сыр покачнулся, посмотрел на небо, сморгнул.
— Как он умер? — Сыр взглянул на меня. — Отравили?
Я покачал головой.
— Машина сбила.
— Нарочно?
Я снова покачал головой.
— За рулем старушка была. Белкер дорогу перебежал.
— Как Бубба это перенес?
— Он отдавал Белкера кастрировать за месяц до того. — Я пожал плечами. Бубба почти уверен, что это самоубийство.
— Похоже. — Сыр кивнул. — Наверняка.
— Так деньги, — Бруссард помахал ладонью перед лицом Сыра, — деньги.
— Мои все при мне, офицер. Как я вам уже и доложил. — Сыр пожал плечами, отвернулся от Бруссарда, прошел к скамье и взгромоздился на ее спинку, поставив ноги на сиденье. По-видимому, рассчитывал, что мы тоже сядем.
— Сыр, — сказал я, устраиваясь рядом с ним, — у нас в квартале девочка пропала. Ты, может, слышал?
Сыр снял со шнуровки ботинка травинку и накрутил ее на пухлые пальцы.
— Слышал краем уха. Аманда как-то там… Так?
— Маккриди, — подсказал Пул.
Сыр поджал губы, будто на миллисекунду задумался, и пожал плечами:
— Фамилия ничего мне не говорит. Так что там насчет сумки с налом?
Бруссард мягко усмехнулся и покачал головой.
— Давайте рассуждать гипотетически, — предложил Пул.
Сыр сцепил пальцы рук, зажал кисти между колен, состроил умильную мину и посмотрел на Пула с детским любопытством:
— Давайте.
Пул поставил ногу на скамью рядом с ногой Сыра.
— Давайте в порядке предположения…
— В порядке предположения, — восторженно повторил Сыр.
— …кто-то украл у одного джентльмена деньги в тот самый день, когда его усадили за решетку за нарушение условий досрочного освобождения.
— В этой истории какая-нибудь сисястая будет? — спросил Сыр. — Сыр любит, чтобы в истории непременно была сисястая.
— Сейчас дойду и до этого, — сказал Пул. — Так вот этот человек, вернее, эта женщина крадет у нашего джентльмена то, что красть не следовало. И через несколько месяцев у нее пропадает ребенок.
— Жаль, — сказал Сыр. — Чертовски досадно, если спросите Сыра.
— Да, — согласился Пул. — Досадно. Далее, известный сообщник джентльмена, рассерженного этой женщиной…
— Обобранного, — поправил Сыр.
— Прошу прощения. — Пул приподнял воображаемую шляпу. — Известный сообщник джентльмена, обобранного этой женщиной, был замечен в толпе, собравшейся возле ее дома в ночь исчезновения дочери.
Сыр потер подбородок.
— Интересно.
— И этот человек работает на вас, мистер Оламон.
Сыр поднял брови:
— Да что вы говорите, вашу мать!
— Гм.
— Так, говорите, у дома толпа собралась?
— Собралась.
— Так, слушайте, держу пари, там был еще и полный трюм тех, кто на меня не работает.
— Это верно.
— Вы их тоже будете допрашивать?
— Их-то мамаша не разводила, — заметил я.
Сыр повернулся ко мне:
— Откуда ты знаешь? Сука до того дошла, что у Сыра взяла, так она поди и весь гребаный квартал обула. Разве я не прав, брат?
— Так вы признаете, что она вас обокрала? — спросил Бруссард.
Сыр посмотрел на меня и ткнул большим пальцем в сторону Бруссарда:
— А я думал, это все гипотетически.
— Разумеется. — Бруссард выставил руку. — Прошу прощения, Ваша Сырность.
— Предлагаю сделку, — сказал Пул.
— Ух ты! — сказал Сыр. — Сделку!
— Мистер Оламон, не для посторонних. Строго между нами.
— Между нами, — повторил Сыр и перекатил глаза на меня.
— Нам важно, чтобы ребенок вернулся к матери живым и здоровым, — сказал Пул.
Сыр долго смотрел на него, и улыбка все шире расплывалась по его физиономии.
— Давайте начистоту. Вы говорите, что вы — полицейский — дадите моему гипотетическому парню забрать эти гипотетические деньги в обмен на гипотетического ребенка, и потом мы все разойдемся друзьями? Вы это дерьмо пытаетесь мне втюхать, офицер?
— Детектив-сержант, — сказал Пул.
— Да хоть кто, — фыркнул Сыр.
— Вы закон знаете, мистер Оламон. Одним только предложением этой сделки мы ловим вас в ловушку. С точки зрения закона вы можете делать с этим предложением что угодно, не навлекая на себя никаких обвинений.
— Херня.
— Без дураков, — сказал Пул.
— Сыр, — сказал я, — допустим, мы заключим эту сделку. Кому от этого хуже?
— А?
— Серьезно. Один вернет себе деньги. Другая получит обратно ребенка. Все разойдутся довольные.
Он погрозил мне пальцем:
— Патрик, брат мой, не пытайся делать карьеру на продажах. Кто пострадает? Ты это спрашиваешь? Кто на хрен пострадает?
— Да. Скажи кто?
— Урод, которого развели, вот кто! — Он вскинул обе руки вверх, потом шлепнул ими по своим необъятным бедрам и приблизил свою голову к моей. — Вот этот урод и пострадает. Этого урода и нае… в ж… Что, поверить полицейскому? Поверить полицейскому и заключить сделку? — Он ухватил меня сзади за шею и сдавил. — Ты, твою мать, ниггер, гребаного крэка накурился?
— Мистер Оламон, — сказал Пул, — как вас убедить, что мы играем честно?
Сыр выпустил меня.
— Вы — нет. Вы погодите, может, чуть поостынете, пусть народ дерьмо между собой перетрет. — Он погрозил толстым пальцем Пулу. — Вот, может, тогда все останутся довольны.
Пул выставил руки ладонями вверх:
— Мы так не можем, мистер Оламон. Вы должны это понять.
— Ладно-ладно, — закивал Сыр. — Но кто-то должен предложить праведному ублюдку сокращение срока за помощь в обеспечении определенной транзакции. Что вы об этом думаете?
— Это значит посвятить в суть дела окружного прокурора, — сказал Пул.
— Так и что?
— Может, вы пропустили ту часть, в которой говорилось, что мы не хотим огласки, — сказал Бруссард. — Верните девочку и идите дальше своей дорогой.
— Ну, тогда ваш гипотетический человек, который согласится на подобную сделку, — полный болван. Гребаная гипотетическая задница, уж это точно.
— Нам нужна Аманда Маккриди. — Бруссард, морщась, разминал себе шею. — Живая.
Сыр подставил лицо солнцу и втянул носом воздух, раздув ноздри так, что легко мог бы втянуть скрутку двадцатипятицентовиков. Пул молча ждал, сложив руки на груди.
— Держал я на конюшне сучку по фамилии Маккриди, — сказал наконец Сыр. — Так, для случайных поручений, ничего регулярного. Не то чтобы товарный вид имела, но при поощрении небольшими подарочками могла работать. Понимаете, о чем я?
— На конюшне? — Бруссард подошел поближе к столу. — Вы хотите сказать, что эксплуатировали Хелен Маккриди в целях проституции?
Сыр наклонился вперед и засмеялся:
— В ц-ц-целях п-п-проституции. Черт, а хорошо звучит, верно? Сколочу-ка я группу, назову «В целях проституции», людишек набежит полный зал, знай себе денежки греби.
Бруссард ударил Сыра по лицу. Удар получился нешуточный. Сыр схватился за нос, между пальцами потекла кровь. Бруссард взял его за ухо и повернул так, что я услышал хруст хряща.
— Слушай меня, шавка. Слушаешь?
Сыр издал какой-то звук, который можно было принять за утвердительный ответ.
— Мне плевать на Хелен Маккриди. Хоть в Пасхальное воскресенье приведи ее к целой толпе священников, мне по хрену. Меня не колышут твои гребаные сделки и уличная торговля героином, которой ты заправляешь, сидя тут. Меня интересует Аманда Маккриди. — Он чуть крепче сжал его ухо. — Слышишь? Аманда Маккриди. И если ты мне не скажешь, где она, Ричард Раундтри,[19] тебе небо с овчинку покажется. Я лично позабочусь, чтобы тебе обеспечили ночь с квартетом чернокожих, из тех, что к тебе неровно дышат. Ты следишь за моей мыслью?
Бруссард отпустил ухо и отступил на шаг.
Волосы Сыра потемнели и слиплись от выступившего пота, из-под сложенных у рта ладоней рвался тот самый хрип, который, как я помнил со школьных лет, перемежал у него ужасающие приступы кашля.
Бруссард, как фокусник после удавшегося номера, сделал рукой в воздухе замысловатый жест и посмотрел на меня.
— Вот и весь суд, — сказал он и вытер руку о брюки.
Сыр убрал ладони от лица и откинулся на спинку скамьи. По верхней губе стекала кровь. Не сводя глаз с Бруссарда, он несколько раз глубоко вдохнул.
Охранники на вышке изучали небо. Часовые у ворот рассматривали свои ботинки, будто только сегодня утром получили по новой паре. Послышался отдаленный металлический лязг, за тюремными стенами кто-то упражнялся в поднятии тяжестей. Мелкая пичужка перепорхнула через дворик для свиданий. Она была так мала и летела так быстро, что я даже не разобрал, какого она цвета — мелькнула над спиралью колючей проволоки и скрылась за стеной.
Бруссард смотрел на Сыра ничего не выражающим взглядом, будто рассматривал кору дерева. Такого Бруссарда я не знал. К нам с Энджи он всегда относился по-дружески, с профессиональным уважением. Скорей всего, таким его и знали те, кто с ним сталкивался — настоящим детективом, элегантным, подтянутым и с улыбкой кинозвезды. Но сейчас в тюрьме Конкорд передо мной стоял уличный коп-громила, с виду предпочитающий всем видам переговоров самый надежный — кулак и дубинку. В его глазах горело желание выбить из Сыра показания любой ценой.
Сыр сплюнул на траву густую слизь, смешанную с кровью.
— Марк Фурман,[20] — сказал он. — Поцелуй мою черную задницу.
Бруссард бросился на него, но Пул успел ухватить его за рукав. Сыр, извиваясь огромным телом, сполз со стола.
— Патрик, ты глянь, с какими скотами ты связался!
— Ну ты, шавка, поговори у меня! — прикрикнул Бруссард. — Вспомнишь меня ночью в одиночке!
— У меня в камере фотка твоей жены есть, — равнодушно бросил Сыр. — Она как раз занимается этим самым с целой кучей карликов. — Вот что у меня есть. Не веришь? Пошли, покажу.
Пул, покраснев от натуги, обхватил рвущегося в бой Бруссарда, оторвал от земли и переставил подальше от скамьи. Сыр направился к калитке для заключенных, а я поспешил за ним.
— Сыр!
Он оглянулся на ходу.
— Сыр, ради бога, ей же всего четыре года.
Он равнодушно бросил:
— Жаль, что так вышло. Скажи ему, чтоб сначала с людьми разговаривать научился.
Сыр прошел за калитку, туда охранник в зеркальных очках меня не пустил. В стеклах я видел свое искаженное, как в комнате смеха, отражение.
— Брось, Сыр! Ну же, старина!
Он повернулся к ограде, взялся за прутья и долго молча смотрел на меня.
— Ничем не могу помочь, Патрик. Понимаешь?
Я указал через плечо на Пула и Бруссарда:
— Они тебе честную сделку предлагали.
Сыр медленно покачал головой:
— Херня это все, Патрик. Мусора — те же урки, старина. Эти уроды всегда сверху будут.
— Они же вернутся с целым войском. Все об этом исчезновении только и говорят, делу придали приоритет, полиция рвет и мечет.
— А я не знаю ни хрена.
— Знаешь.
Он широко улыбнулся. Кровь на верхней губе уже запеклась, и улыбка получилась жутковатой.
— Докажи, — сказал он, отвернулся и пошел по посыпанной гравием дорожке.
Я вернулся к Пулу и Бруссарду, прошел мимо них не останавливаясь.
— Хорошо рассудили, — сказал я. — Великолепное было зрелище, мать вашу.
Бруссард догнал меня, схватил за локоть, развернул лицом к себе.
— Не нравится мой подход, мистер Кензи?
— Какой на хрен подход?! — Я вырвал у него руку. — Это вы так называете то, что там сейчас было?
— Джентльмены, не здесь, — многозначительно сказал Пул, за плечом которого маячил охранник. — Соблюдайте приличия.
Мы прошли далее по коридору, через металлодетекторы и последнюю калитку. Оружие нам вернул сержант с пересаженными волосами, торчавшими у него на макушке густыми кустиками. Мы вышли к автостоянке.
— Сколько, — начал Бруссард, едва у нас под ногами захрустел гравий, — можно было слушать херню этого жердяя, мистер Кензи?
— Сколько потребовалось бы для…
— Может, хотите вернуться, поговорить о самоубийствах собак и…
— …заключить гребаную сделку, детектив Бруссард! Вот что я…
— Насколько вы заодно с этим вашим Сыром?
— Джентльмены, — между нами стал Пул.
Эхо наших голосов разносилось по стоянке, мы оба раскраснелись от крика. У Бруссарда на шее вздулись жилы, у меня в крови тоже бушевал адреналиновый шторм.
— У меня разумные методы, — сказал Бруссард.
— Дрянь ваши методы, — сказал я.
Я пошел через стоянку, ноги у меня подкашивались. Гравий хрустел под ногами, пронзительно крикнула птичка, пролетев со стороны «Уолден Понд». Солнце, подойдя к горизонту, растеклось, за деревьями светилось небо. Я привалился к багажнику «тауруса». Пул что-то говорил, склонившись к уху своего младшего напарника.
Если не считать крика, я сейчас ничего лишнего себе не позволил. Уж если я действительно разъярюсь, если тумблер у меня в голове переключится в положение «включено», голос я не повышаю, он у меня становится монотонный и невыразительный, мне кажется, будто пучок красного света просвечивает мне череп и подавляет страх, всевозможные соображения и переживания. И чем ярче этот свет, тем холоднее делается кровь, пока не станет холодна, как металл на морозе. Тогда я перехожу на шепот.
Затем — обычно неожиданно для меня самого или других — следует удар рукой или ногой, мгновенное яростное мускульное движение, причина которого в красном луче и ледяной крови.
Так же было и у моего отца.
Еще не зная, что обладаю таким характером, я уже знал, каков он. Я чувствовал его в себе. Существенная разница между отцом и мною — надеюсь, она все-таки есть — в отношении к своим поступкам. Отца к действию побуждал гнев там и тогда, где и когда его заставал, ярость управляла им так, как алкоголь, гордость и тщеславие управляют другими.
Подобно тому, как сын алкоголика клянется никогда не пить, я еще в раннем детстве дал клятву не допускать проникновения себе в голову этого красного луча, растекания холода в крови и потребности переходить на шепот. От животных нас отличает, как я привык думать, свобода выбора. Обезьяна не может принять решение ограничивать свой аппетит. Человек может. Отец в определенные моменты жизни вел себя как животное. Я таким быть не хочу. Поэтому, понимая отчаянное стремление Бруссарда найти Аманду, его негодование и возмущение тем, что Сыр не захотел воспринимать нас всерьез, я тем не менее не мог одобрить ни самого Бруссарда, ни его подход, который нас ни к чему не привел. Аманда по-прежнему находилась неизвестно где, ее разве что еще глубже перепрятали в ту нору, где держали до сих пор, и она стала для нас еще недоступней, чем прежде.
На гравии возле бампера появились башмаки Бруссарда, и я почувствовал, как его тень упала мне на лицо — закатное солнце перестало греть кожу.
— Я так больше не могу, — проговорил он до того тихо, что я едва разобрал слова.
— Что не можете?
— Подонки творят с детьми что хотят и чувствуют себя безнаказанными умниками. Не могу.
— Тогда надо уходить с этой работы.
— У нас же его деньги. Захочет получить, придет к нам договариваться об обмене.
Я взглянул ему в лицо и прочел в нем страх, безумную надежду никогда больше не видеть мертвого или изуродованного ребенка.
— А если ему наплевать на деньги?
Бруссард посмотрел в сторону.
— Ему не наплевать. — К машине подошел Пул и положил руку на крышу багажника. Сказанное прозвучало не очень убедительно.
— У Сыра этих денег куры не клюют, — сказал я.
— Вы этих ребят знаете, — сказал Пул.
Бруссард замер, весь внимание.
— Денег никогда не бывает слишком много. Всегда хочется больше.
— Две сотни тысяч для Сыра, конечно, не мелочь, — сказал я. — Но и не годовая прибыль от казино. Деньги сравнительно небольшие — ну, взятку дать, ну, налог на все виды собственности заплатить. За год. Что, если он упрется из принципа?
Бруссард покачал головой:
— У Сыра Оламона нет принципов.
— Есть. — Я стукнул каблуком по бамперу и сам удивился тому, как горячо это у меня вырвалось. Уже спокойнее я повторил: — Есть. И принцип номер один: «Не позволяй никому топтать Сыра».
— А Хелен на нем оттопталась, — кивнул Пул.
— Верно.
— И думаете, Сыр так разъярен, что убьет девочку и плюнет на деньги просто из принципа?
Я кивнул:
— И будет спокойно спать по ночам.
Пул встал в тень между Бруссардом и мной, и его лицо стало серого цвета. Он вдруг показался мне очень старым и уже не столько неопределенно-грозным, сколько находящимся под неопределенной угрозой. И выражения шаловливого эльфа у него на лице я больше не видел.
— А что, если, — сказал он так тихо, что мне пришлось податься к нему, чтобы расслышать, — Сыр захочет и принцип соблюсти, и доход получить?
— То есть на сделку согласится, деньги получит, а девочку убьет? — спросил Бруссард.
Пул поежился.
— Мы, похоже, ему все карты выложили, Рем.
— Каким образом?
— Теперь он знает, что мы на все готовы, лишь бы найти Аманду: нарушать инструкции, действовать, оставив дома полицейские значки, обменять в неофициальном порядке деньги на ребенка.
— И если Сыр захочет выйти победителем…
— Тогда из этой истории живым, кроме него, вообще больше никто не выйдет, — сказал Пул.
— Надо добраться до Криса Маллена, — сказал я. — Посмотрим, куда он нас выведет. Пока до обмена дело не дошло.
Пул и Бруссард кивнули.
— Мистер Кензи, — протянул мне руку Бруссард. — Я погорячился. Позволил этому подонку себя спровоцировать, я мог все дело запороть.
Я пожал ему руку.
— Найдем Аманду и вернем домой.
Он стиснул мою кисть.
— Живой.
— Живой, — сказал я.
— Думаешь, Бруссард сдает? — спросила Энджи.
Мы сидели в машине у границы финансового квартала на Девоншир-стрит, проходившей в тылу Девоншир-плейс, многоквартирной башни, в которой жил Крис Маллен. Несколько детективов из отдела борьбы с преступлениями против детей, проводившие сюда Маллена, отправились на ночь по домам. Еще несколько пар сыщиков продолжали сейчас слежку за главными игроками из команды Сыра. Бруссард и Пул взяли на себя фасад здания, выходивший на Вашингтон-стрит. Только что миновала полночь. Маллен находился дома уже три часа.
Я пожал плечами.
— Ты видела лицо Бруссарда, когда Пул рассказывал о теле Джинни Миннели в бочке с цементом?
Энджи покачала головой.
— Оно у него еще страшнее было, чем у Пула. Могло показаться, вот-вот нервный срыв будет. Руки затряслись, лицо все побелело, на лбу пот выступил. Плохо он выглядел. — Я взглянул на три желтых прямоугольника на пятнадцатом этаже, окна квартиры Маллена. Одно из них погасло. — Может, действительно сдает. С Сыром он явно перестарался.
Энджи зажгла сигарету и чуть опустила оконное стекло так, чтобы образовалась щель. Улица была безлюдна. Зажатая между фасадами из белого известняка и сияющими голубым стеклом небоскребами, она напоминала декорацию для ночной киносъемки, гигантскую модель необитаемого мира. Днем по Девоншир-стрит текла отчасти жизнерадостная, отчасти жестокосердная толпа со своими портфелями, деловыми связями и сотовыми телефонами, просто пешеходы и фондовые брокеры, юристы и секретари, ехали велосипедисты-курьеры, сигналили грузовики и такси. Но после девяти вечера все учреждения закрывались, и, сидя в машине у подножия этих огромных пустых произведений архитектуры, мы чувствовали себя экспонатами, такими же, как и все остальное вокруг, в огромной музейной экспозиции, где огни погашены и смотрители разошлись по домам.
— Помнишь вечер, когда Глинн меня подстрелил? — спросила Энджи.
— Помню.
— Прямо перед этим я, помню, боролась в темноте с тобой и Эвандро, все свечи у меня в спальне мерцали, как глаза, и я думала: больше не смогу. Больше не смогу вкладывать себя — нисколечко — в это насилие и… вообще в это дерьмо. — Она повернулась на сиденье. — Может, что-то такое и Бруссард чувствует. Ну, подумай, сколько можно находить детей в бочках с цементом?
Я подумал о пустоте, которую увидел в глазах Бруссарда после того, как он ударил Сыра. Она была столь полной, что затмила собой даже ярость.
Энджи была права: сколько можно находить мертвых детей без последствий для психики?
— Он бы и город сжег, если бы это помогло найти Аманду, — сказал я.
Энджи кивнула.
— Да и Пул тоже.
— А ее, возможно, уж и в живых нет.
Энджи просунула сигарету в щель над стеклом и стряхнула пепел.
— Не говори так.
— Да не могу. Это не исключено. И ты сама это понимаешь. И я — тоже.
Некоторое время в машину сочилась громоздящаяся тишина пустынной улицы.
— Сыр не выносит свидетелей, — сказала наконец Энджи.
— Точно, — согласился я.
— Если Аманда мертва, — сказала Энджи и прочистила горло, — Бруссард точно, а Пул скорее всего сорвутся.
Я кивнул:
— И Боже сохрани тех, кто, по их мнению, окажется к этому причастен.
— Думаешь, сохранит?
— А?
— Думаешь, Бог сохранит? — сказала она и погасила сигарету в пепельнице. — Думаешь, поможет похитителям Аманды больше, чем ей самой?
— Да нет, наверное.
— Тогда опять-таки… — Она посмотрела вперед за ветровое стекло.
— Что?
— Если после смерти Аманды у Бруссарда поедет крыша и он перестреляет похитителей, может, на то воля Божья?
— Чертовски он странный, этот Бог.
Энджи пожала плечами:
— Да уж какой есть.
Я слышал о режиме работы Криса Маллена-банкира, знал о его склонности проворачивать темные дела в светлое время суток. На следующее утро ровно в 8:55 он вышел из Девоншир-плейс и повернул направо.
Я сидел в машине, стоявшей на Вашингтон-стрит, в полуквартале от башен. Увидев в зеркало заднего вида Маллена, идущего к Стейт, я нажал кнопку уоки-токи, лежавшего рядом на сиденье, и сказал:
— Только что вышел из главного подъезда.
С Девоншир-стрит, где по утрам не только не разрешается оставлять машины, но даже и останавливаться, Энджи ответила:
— Принято.
Бруссард в серой футболке, черных тренировочных штанах и сине-белой теплой куртке стоял неподалеку от моей машины в начале Пай-Элли, пил кофе из пенопластового стаканчика, читая спортивную страницу газеты, как бегун, только что пробежавший трусцой положенную дистанцию. На голове у него были наушники, подключенные к приемнику на поясе, и то и другое черного с желтым цвета, отчего устройство можно было принять за «дискман». Несколько минут назад он даже плеснул себе водой на футболку, чтобы казалось, будто она пропитана потом. Эти бывшие сотрудники полиции нравов и отдела по борьбе с распространением наркотиков — большие мастера по части перевоплощений.
Прямо перед цветочным ларьком напротив Олд-Стейт-Хаус Маллен повернул направо. Бруссард пересек Вашингтон-стрит и последовал за ним. Я видел, как он поднес к губам стаканчик с кофе и зашевелил губами, говоря в микрофон, прикрепленный возле часов у запястья.
— Идет на восток от Стейт. Веду его. Представление начинается, детки.
Я выключил уоки-токи и сунул до поры в карман пальто. Для маскировки мне пришлось сегодня нарядиться в мерзейший серый плащ, как у бездомного из подземки, и уже этим утром я посадил на него пятна яичного желтка и пепси-колы. Грязная, разорванная на груди футболка, джинсы и ботинки пестрели пятнами краски и грязи. Ботинки к тому же просили каши, отставшие подошвы пошлепывали на ходу, выставляя на обозрение голые пальцы ног. Волосы я зачесал ото лба вверх, смочил водой и высушил в таком состоянии феном, придав себе вид Дона Кинга,[21] а оставшийся желток размазал по бороде.
Что поделаешь, внешний вид для создания образа имеет очень большое значение.
Переходя Вашингтон-стрит, я еще расстегнул ширинку и вылил себе на грудь остатки кофе. Завидев меня, идущего неверным шагом и размахивающего руками, прохожие предусмотрительно сторонились. Бормоча слова, которым научила меня, конечно, не мама, я прошел через вращающиеся двери с позолоченными краями парадного подъезда Девоншир-плейс.
Господи, до чего же сильное впечатление произвел мой вид на охранника!
То же можно сказать и о вышедших из лифта трех женщинах и мужчине, сделавших изрядный крюк, чтобы оставить между мною и собой широкую полосу мраморного пола. Я с плотоядным интересом рассмотрел ноги, выступавшие из-под подолов костюмов от Энн Кляйн.
— Не присоединитесь ко мне пиццы покушать? — спросил я.
Шедший с ними бизнесмен оттеснил женщин подальше от меня. В это время пришел в себя охранник:
— Эй! Эй, ты! — и вышел из-за сверкающей лаком черной подковообразной кафедры.
Я обернулся к нему. Он был юн и худ, но некрасиво показывал на меня пальцем.
Бизнесмен вытолкал женщин на улицу, достал из внутреннего кармана пиджака сотовый телефон, зубами вытянул антенну и не останавливаясь пошел по Вашингтон-стрит.
— Давай, — сказал охранник. — Разворачивайся и вали туда, откуда пришел. Живо. Пошел.
Я, стоя перед ним, покачнулся и лизнул бороду, как бы вспомнив о присохшем к ней кусочке яичной скорлупы, переправил его в рот и, не смыкая губ, разжевал.
Охранник потоптался на мраморном полу и положил руку на дубинку.
— Ты, — сказал он так, будто обращался к собаке, — пошел вон.
— Ух ты, ах ты, — промямлил я и еще несколько раз покачнулся.
Звякнул колокольчик, возвещая о прибытии кабины лифта.
Охранник потянулся было к моему локтю, но я уклонился, развернувшись на месте, и он схватил рукой воздух.
Я полез к себе в карман.
— Хочу показать тебе одну штуку.
Охранник взял в руку дубинку.
— Эй, держи руки так, чтобы я их…
— О господи! — сказал кто-то из тех, кто только что вышел из лифта. Я же достал банан и направил его на охранника.
— Боже мой, у него банан! — раздался у меня за спиной знакомый голос.
Энджи. Вечно она импровизирует! Ну, просто не может играть по сценарию.
Вышедшие из лифта стремились пройти через аванзал, не глядя мне в глаза, но все-таки интересуясь происходящей сценой, чтобы потом на работе поразить своим рассказом собравшихся возле автомата с охлажденной водой.
— Сэр, — сказал охранник, стараясь, чтобы в присутствии нескольких свидетелей его голос звучал властно, но в то же время вежливо, — опустите банан.
Я держал банан, как пистолет, и целился им в охранника.
— Мне это дал двоюродный брат, орангутанг.
— Может, кто-нибудь вызовет полицию? — возмутилась какая-то женщина.
— Мадам, — сказал охранник с оттенком отчаяния в голосе, — не беспокойтесь, я сам справлюсь.
Я швырнул в него банан. Охранник уронил дубинку и отскочил назад, будто в него попала пуля.
Кто-то в толпе взвизгнул, несколько человек затрусили к дверям.
Энджи, стоявшая у лифтов, встретилась со мной взглядом, дала понять жестом, что имеет в виду мою прическу, и беззвучно произнесла губами «Очень круто», зашла в лифт, и двери за ней закрылись.
Охранник поднял с пола дубинку и выронил зачем-то подобранный банан. Мне показалось, он вот-вот на меня бросится. Я не знал, сколько человек оставалось у меня за спиной, может быть, три, но хотя бы один из них вполне мог обдумывать героический поступок — ринуться в атаку на бродягу вместе с охранником.
Я повернулся спиной к кафедре и лифтам. В аванзале передо мной находились всего двое мужчин, женщина и охранник. Мужчины бочком продвигались к дверям. Женщина же казалась зачарованной: рот приоткрылся, одну руку она прижимала к груди возле горла.
— Что стало с «Людьми за работой»? — спросил я ее.
— Что? — Охранник сделал шаг в мою сторону.
— Австралийская группа. — Я обернулся к нему и посмотрел добрым изучающим взглядом. — Очень была популярна в начале восьмидесятых. Ужасно популярна. Знаете, что с нею стало?
— Нет. А что?
Глядя на него, я склонил голову набок и почесал висок. Долгое время в аванзале никто не только не шевелился, но, казалось, и дохнуть не смел.
— О, — воскликнул я наконец и пожал плечами. — Моя ошибка, не в тот подъезд зашел. Оставьте банан себе.
И перешагнул через него, направляясь к дверям. Мужчины прижались к стене. Я подмигнул одному из них:
— Первоклассный у вас охранник. Если бы не он, я бы все тут разнес, — сказал я, толкнул дверь-турникет и вышел на Вашингтон-стрит.
Я уж собирался уступить сцену Пулу, сидевшему в «таурусе» на углу Школьной и Вашингтон-стрит, как вдруг толчок двумя ладонями в плечо отбросил меня к стене здания.
— Прочь с дороги, грязная скотина!
Я обернулся и увидел Криса Маллена. Он прошел через вращающиеся двери, указал на меня охраннику и направился к лифтам.
Я смешался с толпой пешеходов, достал из кармана и включил уоки-токи.
— Пул, Маллен вернулся.
— Вас понял, мистер Кензи. Бруссард в настоящий момент связывается с мисс Дженнаро. Развернитесь, идите к своей машине. Не привлекайте к нам внимания. — Я видел сквозь ветровое стекло машины, как он шевелит губами. Он бросил уоки-токи на сиденье и сердито посмотрел на меня.
Я развернулся и пошел в обратную сторону.
На меня уставилась женщина в очках с очень толстыми линзами и волосами, собранными на затылке и оттянутыми назад со лба так сильно, что это придавало ей сходство с муравьем.
— Вы что, какой-нибудь полицейский?
Я приложил палец к губам:
— Шшш.
Она так и застыла с разинутым ртом. Я сунул уоки-токи под плащ и пошел к своей машине.
Открыл багажник и, глядя в его окно, нашел глазами Бруссарда. Он прислонился к стеклу витрины «Эдди Бауэр», придерживал рукой наушник и говорил, поднеся ко рту запястье.
Я наклонился под дверцу багажника и настроился на его канал.
— …повторяю, объект приближается. Немедленно прекратить операцию.
Я стряхнул остатки скорлупы с бороды и надел бейсбольную кепку.
— Повторяю, — прошептал Бруссард. — Прекратить. Уходите.
Я бросил плащ в багажник, надел черный кожаный пиджак, положил уоки-токи в карман, застегнул пиджак так, чтобы не было видно грязную футболку, закрыл багажник, прошел через толпу к витрине «Эдди Бауэр» и стал рассматривать в ней манекены.
— Отвечает?
— Нет, — сказал Бруссард.
— Уоки-токи у нее работает?
— Не могу сказать. По-видимому, она меня слышала и отключила его, еще до прихода Маллена.
— Поднимаемся, — сказал я.
— Сделаете шаг к зданию, я вам ногу по колено отстрелю.
— Она же там как в ловушке. Если уоки-токи сломался и она не слышала ва…
— Я не позволю сорвать наблюдение только оттого, что вы с ней спите. — Бруссард отступил от витрины и прошел мимо меня расхлябанным, размашистым шагом, каким ходят после пробежки трусцой. — Она профессионал. Почему бы вам не действовать так же? — бросил он мне не оборачиваясь.
Бруссард пошел по улице, а я взглянул на часы. Четверть десятого.
Маллен был в башне уже четыре минуты. С чего бы это ему возвращаться? Это вопрос номер один. Или Бруссард постарался?
Нет. Бруссард для этого слишком хорош. Я увидел его только потому, что знал, где он будет стоять. Потом, в толпе, несколько раз смотрел на него и не узнавал.
Я снова посмотрел на часы: 9:16.
Сообщение Бруссарда о возвращении Маллена к Девоншир-плейс, если оно было передано вовремя и дошло, Энджи должна была получить в лифте или перед дверью в его квартиру. После этого она бы повернулась и пошла к лестнице. И сейчас была бы уже на первом этаже.
9:17.
Я не отводил глаз от подъезда Девоншир-плейс. Вышли двое молодых биржевых маклеров в переливающихся костюмах от Хьюго Босса, в туфлях от Гуччи, галстуках от Джеффри Бина и с волосами, так густо сдобренными гелем, что испортить им прическу можно было бы разве что машиной для измельчения древесины. Они уступили дорогу худенькой женщине в синем официальном деловом костюме и в очках от Рево ему под цвет, со стеклами тонкими, как облатка для причастия, и внимательно осмотрели ее зад, пока женщина садилась в такси.
9:18.
Энджи могла застрять наверху, если Маллен застал ее возле двери либо в самой квартире. В последнем случае ей пришлось где-то там спрятаться.
9:19.
Энджи, конечно, не настолько глупа, чтобы, получив сообщение Бруссарда (если она его действительно получила), бежать к лифтам, стоять там, ждать и смотреть, как открываются двери кабины, в которой приехал Маллен.
— Привет, Энджи, давненько тебя не видел!
— И я тебя, Крис, тоже.
— Ты тут какими судьбами?
— Да подружку приходила навестить.
— Вот как? Ты ведь ведешь поиски пропавшей девочки?
— Зачем наставляешь на меня пистолет, Крис?
9:20.
Я посмотрел через перекресток на угол Вашингтон-стрит и Школьной.
Мы встретились глазами с Пулом, и он очень медленно покачал головой.
Возможно, Энджи спустилась в аванзал, но к ней стал приставать охранник.
— Мисс, погодите. Что-то я вас здесь раньше не видел.
— Я тут недавно.
— Не думаю.
Он тянется к телефону, набирает 911…
Но к этому времени Энджи была бы уже на улице.
9:22.
Я сделал шаг в сторону башни. Еще шаг. И остановился.
Если все шло нормально, если Энджи просто выключила уоки-токи, чтобы он своим треском и писком не привлекал внимания окружающих, и, пока я изображал бродягу в аванзале, стояла в лифте перед дверью пятнадцатого этажа, глядя на дверь квартиры Маллена через прямоугольное застекленное окошечко, а я остановился перед входом в башню, как раз когда появился Маллен, он узнал меня…
Я прислонился к стене.
9:24.
Четырнадцать минут назад Маллен толкнул меня об стену и вошел в здание.
Уоки-токи в пиджаке замурлыкал, уткнувшись мне в грудь. Я достал его. Послышалось короткое низкое мычание, после чего голос Энджи произнес:
— Он спускается.
— Ты где?
— Хвала Господу за телевизоры с пятидесятидюймовыми экранами, вот и все, что могу пока сказать.
— Вы внутри? — спросил Бруссард.
— Конечно. Хорошее местечко, старина, но, ей-богу, замки тут простоваты.
— Почему он вернулся?
— Из-за костюма. Долгая песня. Потом как-нибудь спою. Он может сейчас выйти на улицу в любую секунду.
Маллен вышел из здания в синем костюме. Входил в черном. Галстук он тоже сменил. Я стал рассматривать узел, но в это время голова, на шее которой был повязан галстук, повернулась в мою сторону. Я, не меняя положения головы, посмотрел вниз на ботинки. Резкие движения — первое, на что обращают внимание в толпе параноидные наркодилеры, поэтому отворачиваться мне было нельзя.
Я медленно сосчитал до десяти, убавил громкость уоки-токи, который держал в кармане, и едва расслышал Бруссарда.
— Он снова пошел. Веду его.
Я посмотрел на плечи Маллена, двигавшиеся в потоке пешеходов перед девочкой в ярко-желтой куртке, слегка повернул голову и нашел глазами Бруссарда, пробиравшегося через толпу там, где Корт принимала название Стейт-стрит. В это время Маллен перед Олд-Стейт-Хаус повернул направо и перешел на другую сторону.
Я обернулся к витрине «Эдди Бауэр» и увидел свое отражение. Хм…
Час спустя Энджи открыла дверь пассажирского сиденья «форда».
— Подключено для приема звукового сигнала. Подключено для приема звукового сигнала, старина.
Я поставил машину на четвертый этаж стоянки у Пай-Элли, перед нами открывался вид на Девоншир-плейс.
— Жучки в каждой комнате?
Энджи зажгла сигарету.
— И в телефонах.
Я взглянул на часы. Энджи пробыла в башне ровно час.
— Ты что, на ЦРУ работаешь?
Она улыбнулась, держа перед лицом сигарету.
— Говорю же тебе, милый, возможно, потом придется и тебя прикончить.
— Так что там с костюмом?
— Костюмы эти… — Она посмотрела сквозь ветровое стекло на фасад Девоншир-плейс, задумалась и слегка покачала головой. — Да, костюмы. Он сам с собой разговаривает.
— Маллен?
Она кивнула.
— В третьем лице.
— От Сыра, должно быть, перенял.
— Входит в квартиру и бормочет: «Замечательный выбор, твою мать, Маллен. Черный костюм по пятницам. Из ума на хрен выжил?» В таком духе.
— Я бы взял «Нелепые суеверия» за триста, Алекс.
Она усмехнулась:
— Точно. Потом идет в спальню, шурует там, срывает с себя костюм, гремит вешалками в шкафу, и все: «Да, да, да». В общем, проходит несколько минут, он выбирает новый костюм, надевает его, а я думаю: «Хорошо, наконец-то уйдет, а то я уж совсем тут затекла вся за этим телевизором, тут провода повсюду, как змеи…»
— И?
В такие минуты Энджи легко увлекается воспоминаниями, поэтому иногда бывает полезно слегка ее подтолкнуть.
Она сердито взглянула на меня.
— Мистер Переходите-к-сути слушает. Ну… потом вдруг слышу, снова заговорил. Бормочет: «Дурья башка, твою мать. Эй, дурья башка! Да, я тебе говорю!»
— Что? — Я подался вперед.
— Что, снова интересно стало? — Она подмигнула. — Да, поэтому я и думала, что он меня заметил. Застукал. Как говорится, сварил. Так? — Ее большие карие глаза вдруг стали поистине огромными.
— Так.
Она затянулась.
— Не… Это он опять сам с собой.
— Сам себя называет дурьей башкой?
— Видимо, да. Под настроение. «Эй, дурья башка, собрался желтый галстук с этим костюмом? Это хорошо. Вот уж хорошо, морда гребаная».
— Морда гребаная.
— Богом клянусь. Несколько ограниченный словарь, я бы сказала. Потом опять шурует, шурует, берет другой галстук, повязывает и все бормочет себе под нос. А я думаю: «Выберет подходящий галстук, выйдет за дверь, и тут покажется, что сорочка не та. А я так вся затекла, сидя за этим телевизором, что прямо тягачом надо вытаскивать».
— И?
— Он ушел. А я связалась с вами по уоки-токи. — Она щелчком выбросила окурок за окно. — Тут и сказочке конец.
— Сообщение Бруссарда о возращении Маллена тебя где застало? Уже в квартире?
Она покачала головой.
— Перед дверью в квартиру с набором отмычек в руке.
— Шутишь, что ли?
— Что?!
— Ты вошла, уже зная, что он возвращается?
Она пожала плечами:
— Нашло на меня что-то.
— Ты ненормальная.
Она хохотнула.
— Ровно настолько, насколько надо, чтобы поддерживать в тебе интерес, красавчик. Только это мне и надо.
Я так и не решил, чего мне хочется больше: убить ее или поцеловать.
На сиденье между нами запищал уоки-токи. Из динамика послышался голос Бруссарда:
— Пул, ты его ведешь?
— Ответ утвердительный. Такси двигается по Печис в сторону шоссе.
— Кензи.
— Да.
— Мисс Дженнаро с вами?
— Ответ утвердительный, — басом сказал я. Энджи стукнула меня по руке.
— Будьте наготове. Посмотрим, куда он поедет. Я поеду обратно.
Примерно минуту продолжалось молчание, затем Пул сказал:
— Едет по шоссе на юг. Мисс Дженнаро!
— Да, Пул.
— Наши друзья все на месте?
— Все до единого.
— Включайте приемники и оставляйте занятую позицию. Подберете Бруссарда — и поезжайте на юг.
— Уже выполняем. Детектив Бруссард!
— Направляюсь на запад по Брод-стрит, — ответил он.
Я запустил мотор и дал задний ход.
— Встретимся на углу Брод и Бэттеримач.
— Поняла вас.
Пока я выезжал со стоянки, Энджи на заднем сиденье включила переносной приемник и настроила громкость так, что из пустой квартиры Маллена до нас доносилось тихое шипение. Я проехал через стоянку под Девоншир-плейс, повернул налево на Водную, миновал площади Почтовую и Свободы и тут увидел Бруссарда, который стоял перед гастрономическим магазином, прислонившись к фонарному столбу.
Едва он сел в машину, из уоки-токи послышался голос Пула:
— Съезжает с шоссе в Дорчестере у торгового центра «Саус-Бей».
— Снова в родной квартал, — сказал Бруссард. — Вы, ребята, никак без него не можете.
— Нас туда как магнитом тянет, — заверил я.
— Нет, забудьте, — сказал Пул. — Он поворачивает налево на Бостон-стрит, направляется к Саус.
— Не очень притягательный магнит, однако, — сказал я.
Через десять минут мы проехали мимо пустого «тауруса» Пула на Гэвин-стрит в районе Старая Колония в Южном Бостоне, и я остановил машину в полуквартале выше по склону холма. Судя по последнему сообщению, Пул шел пешком за Малленом в направлении Старой Колонии. До следующей связи ничего иного не оставалось, как сидеть, ждать и смотреть на окружавшие нас дома.
Недурной вид на самом деле. Чистые, обсаженные деревьями улицы плавно поворачивают за краснокирпичные здания со свежевыкрашенными белым деталями отделки. Почти повсюду под окнами первых этажей лежат небольшие прямоугольные лужайки, окруженные живыми изгородями. Заборчики вокруг них прямые, крепкие и без ржавчины. Старая Колония — один из самых эстетически приятных районов из тех, что могут встретиться по всей стране.
Здесь, однако, довольно остро стоит вопрос с героином. И вопрос с подростковыми самоубийствами, который, вероятно, является следствием предыдущего. А тот, в свою очередь, вытекает из того факта, что, даже если вы растете в самом приятном районе на свете, это всего лишь район, а вы всего лишь в нем растете, а героин хоть и невесть что, а все же поинтересней, чем смотреть всю жизнь на одни и те же стены, кирпичи и заборчики.
— Я тут вырос, — сказал Бруссард с заднего сиденья. Он посмотрел в окно, будто ожидая, что окружающие дома от его взгляда станут вдруг больше или меньше.
— С такой-то фамилией? — сказала Энджи. — Вы, наверное, шутите.
Он улыбнулся и пожал плечами.
— Отец был из Нового Орлеана. Или «Ноленса», как он его называл. Служил моряком в торговом флоте. У него там случилась небольшая неприятность, поэтому стал работать в доках Чарлстауна, а потом в Саус. — Бруссард, глядя на кирпичные здания, склонил голову набок. — Мы поселились здесь. Каждого третьего ребенка звали Фрэнки О’Брайан, а прочие были Сэлливаны, Шеи, Кэрролы или Коннелли. И если мальчика звали не Фрэнк, значит, Майк, или Шон, или Пэт. — Он поднял брови и посмотрел на меня.
Я поднял руки ладонями вверх:
— О-ля-ля.
— Так что с именем Реми Бруссард… да, я бы сказал, мне пришлось нелегко, но от этого я только закалился. — Он широко улыбнулся и, глядя в окно, тихонько присвистнул: — Господи, вот вам и возвращение на родину!
— А вы больше здесь не живете? — спросила Энджи.
Он покачал головой:
— Не живу. С тех пор как отец умер.
— Скучаете по Саус?
Он поджал губы и взглянул на детей, с криком бежавших по тротуару и без видимой причины кидавших друг в друга, как мы не сразу поняли, крышечками от бутылок.
— Да нет. Нет. Всегда чувствовал себя в городе заблудившимся деревенским пареньком. Даже в Новом Орлеане. — Он пожал плечами. — Я деревья люблю.
Бруссард повернул колесико настройки частоты на своем уоки-токи и поднес его ко рту.
— Детектив Паскуале, это Бруссард. Прием.
Паскуале работал в отделе по борьбе с преступлениями против детей, и в его обязанности входило наблюдать за тем, не явится ли кто-нибудь в тюрьму Конкорд навестить Сыра.
— Паскуале слушает.
— Есть что-нибудь?
— Ничего. После вашего вчерашнего прихода, ребята, никаких посетителей.
— Телефонных звонков не было?
— Ответ отрицательный. Оламон потерял право пользоваться телефоном с тех пор, как в прошлом месяце нарушил правила поведения во дворе.
— Ясно. Конец связи с Бруссардом. — Он бросил уоки-токи на сиденье и вдруг поднял голову и посмотрел на машину, ехавшую к нам по улице.
— Что это у нас тут?
Дымно-серый «лексус Эр-Экс 300» с именем владельца — Фаро — на номерном знаке проехал мимо нас, метров через двадцать сделал полный разворот и стал у обочины, загородив въезд в переулок. Это был спортивный внедорожник за пятьдесят тысяч долларов, предназначенный для джунглей, для сафари, которые время от времени проходят по нашим местам, и каждый его дюйм сверкал так, будто его отполировали шелковыми подушечками. Машина нисколько не уступала «эскортам», «гольфам» и «геосам», стоявшим вдоль обочины, и «бьюику» начала восьмидесятых годов с зеленым мешком для мусора, прикрепленным клейкой лентой к разбитому заднему стеклу.
— «Лексус Эр-Экс триста», — звучным басом телеведущего возвестил Бруссард, — безупречный комфорт для наркодилера, которого не могут остановить ни метели, ни бездорожье. — Он наклонился, опираясь руками на сиденье между нами, и посмотрел в зеркало заднего вида. — Дамы и господа, познакомьтесь с Фараоном Гутиерресом, Верховным лордом города Лоуэлла.
Из «лексуса» вышел худощавый латиноамериканской наружности мужчина. Он был в черных полотняных брюках, лаймово-зеленой рубашке, застегнутой на шее черной заколкой, и в черном шелковом фраке с фалдами до колен.
— Ничего себе франт! — обалдело ахнула Энджи.
— И в самом деле, — сказал Бруссард. — Это еще скромный наряд. Видели бы вы его, когда он отправляется по ночным клубам.
Фараон Гутиеррес поправил фалды и штанины на бедрах.
— Какого хрена он тут делает? — тихо спросил Бруссард.
— Кто он такой?
— Ведет дела Сыра в Лоуэлле и Лоренсе, городах красных фонарей с долгой историей. Еще, говорят, только он может договариваться с этими психами, рыбаками из Нью-Бедфорда.
— Ну, тогда понятно, — сказала Энджи.
Бруссард не сводил глаз с зеркала заднего вида.
— Что это?
— Приехал на встречу с Крисом Малленом.
Бруссард покачал головой:
— Нет, нет, нет. Маллен и Фараон друг друга презирают. Тут, как я слышал, замешана женщина. Дело десятилетней давности. Вот почему Гутиеррес оказался вытеснен на 495-ю в трущобы за окружную, а Маллен остался в городе. Никакой встречи Криса Маллена с Гутиерресом быть не может.
Гутиеррес, несколько задрав голову и выставив вперед подбородок, из конца в конец осмотрел улицу, придерживая, как судья, обеими руками лацканы фрака. Казалось, длинным тонким носом он принюхивается к запахам. В горделивой осанке было нечто петушиное и несуразное его тщедушному телосложению. Он выглядел как человек, не прощающий обид, но при этом постоянно их ожидающий, беззащитный, но готовый убить.
Когда-то я знал таких ребят. Невысокие ростом и не слишком крепкого телосложения, они до того стремились доказать, что не менее опасны, чем крупные парни, что дрались постоянно, дух перевести не успевали и даже ели второпях. Мои знакомые мужчины такого типа становились либо полицейскими, либо преступниками. Казалось, у них просто иного выбора нет. И часто погибали молодыми с выражением злобного недоумения на лицах.
— Будто заноза у него в заднице, — сказал я, имея в виду Гутиерреса.
Бруссард сложил руки на спинке переднего сиденья и уперся в них подбородком.
— Да, почти исчерпывающая характеристика Фараона. Слишком многое ему приходится доказывать и слишком мало на это времени. Я давно заметил, он неуравновешенный, может в один прекрасный день подойти к Крису Маллену и влепить ему пулю в лоб, наплевав на Сыра Оламона.
— Может, этот день уже настал? — заметила Энджи.
— Может быть, — сказал Бруссард.
Гутиеррес обошел вокруг «лексуса», прислонился к капоту у переднего колеса, посмотрел в переулок, который загородил машиной, потом на часы.
— К вам идет Маллен, — послышался из уоки-токи шепот Пула.
— Тут представитель недружественной третьей стороны, — сказал Бруссард. — Притормози, старина.
— Вас понял.
Энджи дотянулась до зеркала заднего вида и направила его немного правее, так, чтобы нам были лучше видны Гутиеррес, «лексус» и выход из переулка.
Вскоре появился Маллен. Мазнул взглядом по Гутиерресу и «лексусу». Бруссард привалился к спинке переднего сиденья, достал из-за пояса «глок», снял с предохранителя.
— Станет горячо — из машины не выходите, звоните 911.
Маллен приподнял тонкий черный портфель и улыбнулся.
Гутиеррес кивнул.
Бруссард пригнулся на пассажирском сиденье, держась за ручку дверцы.
Маллен протянул свободную руку, и через мгновение Гутиеррес ее пожал. Они обнялись и похлопали друг друга по спинам кулаками.
Бруссард выпустил ручку дверцы.
— Интересно.
Маллен и Гутиеррес вышли из клинча. Теперь портфель оказался в руках Гутиерреса. Он повернулся к «лексусу», открыл дверцу, сделал рукой замысловатый приглашающий жест, слегка поклонился, и Маллен забрался на пассажирское сиденье. Гутиеррес обошел машину, занял водительское место и завел двигатель.
— Пул, — сказал Бруссард в уоки-токи, — у нас тут Гутиеррес с Малленом встретились, как братья после долгой разлуки.
— Да ладно тебе.
— Богом клянусь, старина.
«Лексус» тронулся от тротуара и проехал мимо нас. Дождавшись, пока он отъедет подальше, Бруссард поднес ко рту уоки-токи.
— Чисто, Пул. Следуем за темно-серым «лексусом», за рулем Гутиеррес, рядом — Маллен. Направляются к выезду из района.
Мы поехали по Бостон-стрит. Когда поравнялись со вторым переулком налево, из него трусцой выбежал Пул. Он был одет как бродяга, в наряде, похожем на мой сегодня утром, только добавилась синяя бандана. Пул снял ее, переходя улицу позади нас, и припустил рысцой к «таурусу». Мы поехали следом за «лексусом». Гутиеррес свернул направо, мы выехали за ним на площадь Андрея и затем на дорогу, шедшую параллельно автомагистрали.
— Маллен и Гутиеррес теперь друзья, — сказала Энджи, — что бы это значило?
— Ж… дело Сыра Оламона.
— Сыр сидит, а два его заместителя, в прошлом смертельные враги, объединились против него?
Бруссард кивнул:
— Чтобы завладеть империей.
— Но при чем тут Аманда? — не выдержал я.
Бруссард пожал плечами.
— Она в самом центре.
— Центре чего? Оптического прицела?
Когда долго наблюдаешь за жизнью подонков, начинаешь понемногу им завидовать.
Нет, по-настоящему достают, разумеется, не большие машины по шестьдесят тысяч долларов, квартиры по миллиону и места в первых рядах на играх «Патриотов»,[22] хотя и это тоже может несколько раздражать. Речь о свободе выбора в повседневных мелочах, доступной хорошему наркодилеру и, кажется, совершенно немыслимой для нас, людей работающих.
Например, за все время наблюдения я ни разу не видел, чтобы на Маллена или Гутиерреса произвели хоть какое-то впечатление сигналы светофоров. Красный свет, судя по всему, для мелких людишек, знак остановиться — для сосунков. Ограничение 90 километров в час на автомагистрали? Пожалуйста, думает нормальный человек. Но зачем же, думает не знающий, куда деньги девать, ехать со скоростью 90, когда при 140 в час доберешься до места гораздо быстрее? Зачем ехать по обгонной полосе, когда разделительная свободна? И потом, парковка. Найти для нее место в Бостоне — примерно то же, что склон для катания на горных лыжах в Сахаре. Субтильные пожилые дамы в норковых накидках, случается, открывают у нас друг по другу огонь из-за парковочного места. В середине восьмидесятых нашелся даже какой-то идиот, который заплатил четверть миллиона долларов за право передавать по наследству парковочное место на стоянке Бикон-Хилл, и это еще не считая ежемесячных платежей.
Бостон: город у нас маленький и холодный, но мы убьем за хорошее парковочное место. Приезжайте! Привозите семью!
Фараон, Маллен и несколько их холуев — то, за чем мы следовали несколько следующих дней, — с подобными затруднениями не сталкивались: просто оставляли машину там и тогда, где и когда у них возникало желание. И на столько, на сколько их душе было угодно.
Однажды на Коламбас-авеню в Саус-Энде Крис Маллен закончил ланч, вышел из Хаммерслейс и обнаружил сердитого джентльмена артистического облика в эспаньолке и с тремя пуссетами в ухе. Своим черным лакированным «бенцем» Крис не давал возможности выехать его занюханному «сивику», которому давно уже было место на свалке. Джентльмен был с дамой, поэтому вынужден был устроить скандал. Сидя в машине с двигателем, работающем на холостом ходу, в полуквартале от них и по другую сторону улицы, мы, конечно, не слышали, что они говорят друг другу, но суть уловили. Джентльмен и его спутница кричали и указывали руками на машины. Крис подошел к ним, поправил под темным плащом от Армани кашемировый шарф, расправил галстук и дал ногой джентльмену по коленной чашечке так ловко, что тот оказался на земле еще прежде, чем его спутница успела высказать все заготовленное. Крис оказался стоящим так близко к женщине, что их можно было бы принять за любовников. Он приложил указательный палец ей ко лбу, отвел большой палец под прямым углом к указательному и так подержал некоторое время, которое ей, вероятно, показалось вечностью. Затем резко прижал большой палец к указательному, изображая удар бойка, отнял указательный палец от лба, подул на него, как в воображаемый ствол пистолета, улыбнулся, наклонился и чмокнул даму в щечку.
Потом обошел свою машину, сел за руль и уехал, оставив ее в полном остолбенении. Она смотрела ему вслед и, как мне тогда показалось, даже не слышала, как ее спутник вопит от боли, извиваясь на тротуаре, как кошка со сломанным позвоночником.
Помимо Бруссарда, Пула и нас с Энджи, слежку вели еще несколько полицейских из отдела борьбы с преступлениями против детей. Кроме Гутиерреса и Маллена мы наблюдали за целой галереей мерзавцев из числа подручных Сыра Оламона. Был среди них Карлос «Нож» Орландо, который присматривал за ежедневными операциями на строительстве жилых домов и, куда бы ни шел, имел при себе стопку комиксов. Был также Джей Джей Макнелли, дослужившийся до положения главного сутенера всех проституток невьетнамского происхождения в Северном Дорчестере, он встречался с девушкой-вьетнамкой, в которой души не чаял и которой на вид можно было дать полных пятнадцать лет. Джоэль Грин и Хики Вистер занимались незаконными ссудами под грабительские проценты и букмекерскими сделками в будке, стоявшей в баре «У Эльсинора» в Лоуэр-Миллс, которым владел Сыр. Были еще Бадди Пери и Брайан Бокс, два парня, до того тупые, что для отыскания собственных сортиров им требовалась карта. Эти использовались как грубая физическая сила. С первого взгляда становилось ясно, что все это народ далеко не семи пядей во лбу. Сыр занял свое высокое положение заслуженно, демонстрируя уважение и воздавая должное всякому, кто мог ему повредить, он всякий раз поднимался в криминальной иерархии на следующую, более высокую ступень, едва она оказывалась свободной. Особенно широко он шагнул несколько лет назад, когда Джек Раус, крестный отец ирландского преступного сообщества Дорчестера и Саути исчез вместе со своей правой рукой Кевином Херлихи, типом с осиным гнездом в голове и промышленной коррозионной жидкостью вместо крови. После их исчезновения Сыр заявил о своих претензиях на северную часть Дорчестера и своего добился. Он проявил недюжинную сообразительность, Крис Маллен тоже был не дурак, и Фараон Гутиеррес был вполне себе на уме. Остальные подручные Сыра следовали его указанию и не брали на работу никого, кто был бы не только жаден (что Сыр рассматривал как неотъемлемое требование при занятии данным бизнесом), но и достаточно смышлен, чтобы обуздать свою алчность.
Поэтому работали на Сыра в основном болваны, искатели острых ощущений и ребята, любившие скатанные в рулон банкноты обтягивать кольцевыми резинками-стяжками, говорить, подражая Джеймсу Каану,[23] чваниться, но иных амбиций почти не имели.
За всеми помещениями, куда заходили Маллен или Гутиеррес, будь то квартира, склад или офисное здание, отдел по борьбе с преступлениями против детей тотчас устанавливал круглосуточное наблюдение на срок не менее трех дней, и туда же по возможности внедрялись осведомители.
С помощью жучков, установленных в квартире Маллена, удалось выяснить, что он каждый вечер в семь звонит матери, и повторяется один и тот же разговор: почему он не женится, почему настолько эгоистичен, что лишает мать внуков, почему не встречается с приличными девушками и как так выходит, что он всегда такой бледный, хотя у него такая хорошая работа в Лесной службе? Каждый вечер с половины восьмого он смотрел телевикторину «Риск!», набирая до трехсот очков, причем на вопросы отвечал вслух. У Маллена были энциклопедические познания в географии, но он позорно «плавал», когда вопросы касались французских художников семнадцатого века.
Мы прослушали его разговоры с несколькими подружками, пустяковую болтовню с Гутиерресом насчет автомобилей, кинофильмов и «Бруинс»,[24] но, как и большинство представителей преступного мира, он не любил говорить о делах по телефону, к которому испытывал здоровое недоверие.
Поиски Аманды Маккриди на всех фронтах закончились поражением, и полицейские силы постепенно передавали от отдела по борьбе с преступлениями против детей другим подразделениям.
На четвертый день наблюдения позвонил лейтенант Дойл и попросил Бруссарда и Пула приехать через полчаса в полицейский участок и обязательно взять с собой нас с Энджи.
— Можете стать свидетелями какой-нибудь некрасивой сцены, — сказал Пул по дороге в центр города.
— А мы-то зачем? — спросила Энджи.
— Потому-то и будет некрасивая, — сказал Пул и улыбнулся Энджи, показавшей ему язык.
День у Дойла не задался. Лицо было серым, мешки под глазами темными, и от него пахло кофейной гущей.
— Закройте дверь, — сказал он Пулу, когда мы вошли.
Мы сели за стол напротив него, Пул закрыл дверь.
— Когда наш отдел только создавался, я искал хороших детективов, — сказал Дойл, — где угодно, но только не в полиции нравов и не в управлении по борьбе с наркотиками. Почему, детектив Бруссард?
Бруссард теребил в руках галстук.
— Потому что с людьми оттуда все боятся работать, сэр.
— А почему боятся, сержант Рафтопулос?
— Потому что мы такие симпатичные, сэр.
Дойл сделал жест, смысл которого можно было бы передать словами «Погодите, сейчас я вам дам правильный ответ», и несколько раз кивнул, видимо собственным мыслям.
— Потому, — сказал он наконец, — что детективы оттуда — ковбои. Бешеные полицейские. Любят выпить, любят бабло, любят азарт. Любят все делать по-своему.
Пул кивнул.
— Обычный побочный эффект от такой работы, да, сэр.
— Но ваш лейтенант из ноль-шесть заверил меня, что вы двое — ребята исправные, работаете эффективно и исключительно как положено. Так?
— Ходят такие слухи, сэр, — сказал Бруссард.
Дойл натянуто ему улыбнулся.
— В прошлом году вы получили звание детектива первого класса. Верно, Бруссард?
— Так точно, сэр.
— Желаете быть разжалованным до второго или третьего? Может быть, до патрульного?
— Нет, сэр. Не получил бы от этого большого удовольствия, сэр.
— Тогда хватит мне лапшу на уши вешать, детектив.
Бруссард кашлянул в кулак.
— Есть, сэр.
Дойл взял со стола лист бумаги, почитал и снова положил.
— Половина детективов из моего отдела придана вам для наблюдения за людьми Оламона. На мой вопрос «зачем?» вы мне ответили, что получили анонимное указание о причастности Оламона к исчезновению Аманды Маккриди. — Дойл снова кивнул самому себе, оторвал взгляд от листа бумаги и посмотрел в глаза Пулу. — Желаете внести поправки в это утверждение?
— Простите, не понял, сэр.
Дойл взглянул на часы и поднялся.
— Буду считать от десяти до одного. Успеете сказать мне правду, может быть, оставлю вас на работе. Десять, — сказал Дойл.
— Сэр.
— Девять.
— Сэр, мы не знаем…
— Ух. Восемь. Семь.
— Мы считаем, что Сыр Оламон похитил Аманду Маккриди, чтобы заставить ее мать вернуть деньги, похищенные у его организации. — Пул сел и, глядя на Бруссарда, пожал плечами.
— Итак, это похищение ребенка, — сказал Дойл и тоже сел.
— Возможно, — сказал Бруссард.
— Преступление, которым должны заниматься на федеральном уровне.
— Но только при условии, что это действительно похищение ребенка.
Дойл выдвинул ящик стола, достал кассетный плеер, бросил его на стол, впервые с момента нашего появления в этой комнате взглянул на нас с Энджи и нажал кнопку «воспроизведение».
Сначала послышалось потрескивание и шипение, затем звонок телефона, и голос, по которому я сразу узнал Лайонела, произнес: «Алло».
На другом конце провода женский голос сказал:
«Скажи своей сестре, чтобы послала старого копа, копа-симпатягу и двух частных детективов в гранитную каменоломню, где рельсы, завтра в восемь вечера. Скажи им: путь идут со стороны Квинси через железнодорожную дорогу».
«Простите, а кто это?» — спросил Лайонел.
«Скажи им: пусть принесут то, что нашли в Чарлстауне».
«Мадам, я не совсем уверен, что…»
«Скажи им: то, что они нашли в Чарлстауне, обменяем на то, что мы нашли в Дорчестере. — Женский голос, тихий и невыразительный, стал несколько живее. — Ты меня понял, милый?»
«Даже не знаю. Можно хоть клочок бумаги взять?»
Послышался смешок.
«Чудак ты, милый. Серьезно. Это ж все записывается. Для всякого, кто не глухой. Увидим завтра вечером у Грэнит-Рейл кого-нибудь, кроме упомянутых четырех, и посылочка из Дорчестера полетит со скалы».
«Да никто…»
«Пока, милый. Будь паинькой. Ты слышишь?»
«Нет, погодите…»
Раздался щелчок, стало слышно хриплое дыхание Лайонела, потом длинный, низкий гудок.
Дойл выключил плеер, откинулся на спинку кресла, сложил кончики пальцев разных рук так, что получилось что-то вроде крыши колокольни, и стал постукивать коньком этой крыши себе по нижней губе.
Несколько минут прошло в молчании, затем он сказал:
— Итак, ребята, говорите, что нашли в Чарлстауне?
Все молчали.
Дойл повернулся вместе с вращающимся креслом и посмотрел на Пула и Бруссарда:
— Ну что, мне снова от десяти до одного посчитать?
Пул посмотрел на Бруссарда. Тот выставил вперед руку ладонью вверх и затем сделал приглашающий жест в сторону Пула.
— Спасибо, дорогой. — Пул повернулся к Дойлу: — На заднем дворе Дэвида Мартина и Кимми Нигаус нашли двести тысяч долларов.
— Копченые сельди в Чарлстауне, — сказал Дойл.
— Да, сэр.
— И эти двести тысяч, разумеется, были приобщены к делу как вещественные доказательства.
Пул указал в направлении Бруссарда.
Тот опустил глаза и стал рассматривать свои ботинки.
— Не совсем, сэр.
— Да уж. — Дойл взял карандаш и записал что-то в блокноте, лежавшем перед ним на столе. — И стоит мне позвонить в подразделение собственной безопасности, вас обоих уволят из отдела. На какую охранную фирму будете потом работать, как думаете?
— Ну, вы же понимаете…
— Или это будет бар? — Дойл широко улыбнулся. — Гражданские это обожают. Приятно знать, что бармен — бывший коп. Можно послушать рассказы о подвигах, о том, что бывало на службе.
— Лейтенант, — сказал Пул. — При всем уважении, мы бы охотно продолжали здесь работать.
— Да уж конечно. — Дойл записал что-то еще в блокноте. — Только надо было об этом думать до того, как незаконно присвоили вещественные доказательства, полученные в процессе расследования дела об убийстве. Это уголовное преступление, джентльмены. — Он взял телефонную трубку, набрал какие-то две цифры и стал ждать. — Майкл, кто у нас там занимается расследованием дела об убийствах Мартина и Кимми Нигаус? Я подожду у телефона. — Он прижал трубку плечом к уху, постучал ластиком на конце карандаша по столу и слегка присвистнул сквозь зубы. Из трубки доносился тихий голосок характерного тембра. Дойл еще сильнее наклонил голову и прижал динамик к уху. — Да. Понятно. — Он опять записал что-то в блокноте и положил трубку. — Детективы Дэниел Гаден и Марк Леонард. Знаете таких?
— Едва-едва, — сказал Бруссард.
— Я так полагаю, вы не дали им знать о находке на заднем дворе тех, чьи убийства они расследуют.
— Да, сэр.
— «Да, сэр» — вы дали им знать? Или «да, сэр» — не дали?
— Последнее, — сказал Пул.
Дойл закинул руки за голову и снова откинулся на спинку кресла.
— Деньги доставьте мне, джентльмены. Если окажется, что это не пахнет так дурно, как мне сейчас кажется, может быть, — именно может быть, — вы еще поработаете следующую неделю. Но могу вам твердо обещать: в моем отделе подобные номера не пройдут. Захочется посмотреть на гребаных ковбоев — поставлю кассету с вестерном «Рио-Браво».
Пул рассказал Дойлу все, начиная с момента, когда мы с Энджи заметили Криса Маллена в видеоматериалах новостей, только обошел молчанием записку с требованием выкупа, которую нашли в нижнем белье Кимми. Я мысленно воспроизвел разговор Лайонела со звонившей женщиной и сразу понял, что без этой записки оставалось непонятным, что в обмен на ребенка она требует именно деньги. А раз нет признаков похищения ради выкупа, нет и оснований передавать дело федералам.
— Где деньги? — спросил Дойл, когда Пул умолк.
— У меня, — сказал я.
— У вас? — сказал Дойл, не глядя в мою сторону. — Это очень хорошо, сержант Пул. Двести тысяч долларов украденных денег — и я бы мог добавить: украденных вещественных доказательств — в руках частного лица, чье имя уже несколько лет связывают с тремя нераскрытыми убийствами и, как поговаривают, исчезновением Джека Рауса и Кевина Херлихи.
— Я тут ни при чем, — сказал я. — Наверное, путаете меня с каким-то другим Патриком Кензи.
Энджи под столом ударила меня ногой по голени.
— Пэт, — сказал Дойл, наклонился вперед и взглянул на меня.
— Патрик, — мягко поправил я.
— Извиняюсь, — сказал Дойл. — Патрик, вы обвиняетесь в укрывательстве похищенной собственности, препятствовании правосудию, препятствовании в расследовании уголовного дела, находящегося в федеральной юрисдикции, и в нарушении правил хранения вещественных доказательств вышеуказанного дела. Желаете и дальше тут кобениться или посмотрите, что я на вас накопаю, если вы мне действительно не понравитесь?
Я поерзал на стуле.
— Это что? — спросил Дойл. — Я вас не слышу.
— Нет, — сказал я.
Он приложил ладонь к уху:
— Еще раз.
— Нет, — сказал я. — Сэр.
Он улыбнулся и шлепнул пальцами по столу.
— Очень хорошо, сынок. Говорить будешь, когда я скажу. А до тех пор — ротик на замочек. — Он кивнул Энджи. — И ваша напарница — то же самое. Все говорят, мадам, что вы — мозговой центр всякого вашего расследования. В этом, похоже, не врут. — Он повернулся к Пулу и Бруссарду. — Итак, вы, два гения, решили сыграть на уровне Сыра Оламона и махнуть ребенка на деньги.
— В общем, да, сэр.
— И причина, по которой мне не следует передавать это дело федералам, заключается в чем? — Он выставил вперед руки.
— В том, что формально требования выкупа нет, — сказал Бруссард.
Дойл посмотрел на плеер:
— А что это мы тогда слушали?
— Позвольте, сэр. — Пул облокотился на стол и указал на плеер: — Если прослушать еще раз, можно заметить, что тут женщина предлагает обмен «чего-то», найденного в Чарлстауне, на «что-то», найденное в Дорчестере. Она, может, об обмене почтовыми марками говорит или портретами бейсболистов.
— А то, что она звонила матери пропавшего ребенка, не заинтересует наших федеральных товарищей по охране правопорядка?
— Ну, строго говоря, — сказал Бруссард, — она звонила брату матери пропавшего ребенка.
— И сказала: «Скажи своей сестре», — настаивал Дойл.
— Да, верно, но тем не менее нет веских оснований утверждать, что речь идет о похищении ребенка. А вы федералов знаете, с Руби Ридж и Уэйко облажались, сумасшедшие сделки с бостонской мафией заключали, они…
Дойл поднял руку:
— Все мы знаем о проколах бюро, детектив Бруссард. — Он взглянул на плеер, затем на блокнот с записями, лежавший перед ним на столе. — Каменоломня Грэнит-Рейл не в нашей юрисдикции, а в совместном ведении полиции штата и полицейского управления Квинси. Поэтому… — он хлопнул в ладоши, — ладно.
— Ладно? — спросил Бруссард.
— «Ладно» означает, что отсутствие прямого упоминания дочери Маккриди позволяет нам предложить совместную работу ведомствам штата и Квинси. Федералов пока беспокоить не будем. Звонившая женщина сказала, чтобы никого, кроме вас, в каменоломне Грэнит-Рейл не было. Отлично. Но мы эти холмы, джентльмены, оцепим. Натянем веревку вокруг карьеров Квинси, и, как только ребенок окажется вне опасности, изолируем Маллена, Гутиерреса и всех остальных, желающих устроить день расплаты и получить эти двести тысяч, кто бы там ни был. — Он снова шлепнул пальцами по столу. — Хорошая мысль?
— Да, сэр.
— Да, сэр.
Дойл холодно улыбнулся.
— И после этого переведу вас, друзья мои, из своего подразделения и с подведомственной мне территории. А если завтра вечером что-то пойдет наперекосяк, отправлю бороться с террористами-подрывниками. Будете считать минуты до пенсии, ползать под машинами и надеяться, что они не взорвутся. Вопросы есть?
— Нет, сэр.
— Нет, сэр.
Я повернулся на вращающемся стуле в сторону двери.
— Мистер Кензи и мисс Дженнаро, вы люди гражданские. Мне не нравится ваше участие в этом деле, не говоря уж о подъеме на холм завтра вечером, но у меня выбора нет. Поэтому уговор такой: никаких перестрелок с подозреваемыми. Никаких разговоров с ними. В случае конфронтации упадете на колени и закроете головы руками. По окончании не будете обсуждать никаких деталей операции с журналистами. И писать книги об этом деле тоже не будете. Ясно?
Я кивнул.
Энджи кивнула.
— Если нарушите из вышеперечисленного хотя бы один пункт, отзову ваши лицензии и разрешения на ношение оружия. Поручу подразделению, которое занимается делом Колда, взяться за убийство Мариона Сосиа, позвоню знакомым журналистам и устрою так, что они поднимут историю странного исчезновения Джека Рауса и Кевина Херлихи. Понятно?
Мы кивнули.
— Ну-ка, как вы говорите «Так точно, лейтенант Дойл»?
— Так точно, лейтенант Дойл, — пробормотала Энджи.
— Так точно, лейтенант Дойл, — сказал я.
— Отлично. — Дойл откинулся на спинку кресла и широко раскрыл объятия всем нам. — А теперь проваливайте на хрен.
— Потрясный мужик, — выдохнула Энджи, когда мы оказались на улице.
— Добрейшей души либерал старой закалки, — сказал Пул.
— Да что вы?!
Пул посмотрел на меня, будто я в его присутствии нюхаю клей, и очень медленно покачал головой.
— О, — понимающе сказал я.
— Деньги целы, мистер Кензи?
Я кивнул.
— Сейчас хотите забрать?
Пул и Бруссард переглянулись и пожали плечами.
— Не к спеху, — сказал Бруссард. — Завтра, не знаю пока когда, будет военный совет. Соберутся ребята из штата, из Квинси и мы. Приносите деньги тогда.
— Кто знает, — сказал Пул, — при таких силах, собранных для слежения за людьми Оламона, может, завтра удастся схватить кого-нибудь из них в момент выхода из дома с ребенком на буксире. Положим их, и все это дело наконец закончится.
— Конечно, Пул, — сказала Энджи. — Конечно. Это будет вот так просто.
Пул вздохнул и покачался взад-вперед на каблуках.
— Господи, — сказал Бруссард, — не хочу я работать ни в каком антитеррористическом взводе, бомбы искать.
Пул усмехнулся.
— Тут тебе, — сказал он, — старина, и есть этот самый взвод.
Мы сели на ступеньках у подъезда Лайонела и Беатрис и, насколько могли подробно рассказали им о новых поворотах в деле, перевирая детали, знание которых могло бы позволить федералам обвинить их в соучастии в совершении тяжкого преступления, если таковое будет в дальнейшем предъявлено нам.
— То есть, — сказала Беатрис, когда мы рассказали все, что могли, — это случилось из-за того, что Хелен провернула одну из своих дурацких махинаций и развела на бабки не того парня.
Я кивнул.
Лайонел, ковырявший большую мозоль на большом пальце руки, шумно выдохнул.
— Она моя сестра, — сказал он, помолчав, — но это… это…
— Непростительно, — подсказала Беатрис.
Он посмотрел на нее, потом на меня с таким выражением, как будто ему в лицо плеснули тоника.
— Да, непростительно.
Энджи стала к перилам, я подошел к ней и почувствовал ее теплую руку в своей.
— Если вас это утешит, — сказала она, — сомневаюсь, что кто-то мог предвидеть такое продолжение.
Беатрис прошла по крыльцу, села на ступеньки рядом с мужем, взяла его крупные руки в свои, и оба они с минуту смотрели куда-то в дальний конец улицы, обратив туда лица, в которых были видны огорчение, опустошенность, гнев и смирение одновременно.
— Я просто не понимаю, — сказала Беатрис. — Я просто не понимаю, — повторила она шепотом.
— Они убьют ее? — Лайонел посмотрел на нас через плечо.
— Нет, — сказал я. — Зачем? Какой в этом смысл?
Энджи стиснула мою руку, чтобы помочь вынести тяжесть этой лжи.
Мы вернулись домой, и первым принял душ я, смыл с себя четыре дня сидения в машинах и следования по городу за подонками. Потом в ванную пошла Энджи.
Она вышла и, туго обернутая белым полотенцем, стала в дверях гостиной. Кожа цвета меда. Расчесывая волосы, она смотрела, как я, сидя в кресле, записываю впечатления о нашей сегодняшней встрече с лейтенантом Дойлом.
Я оторвался от блокнота и встретился с ней взглядом.
У нее удивительные глаза цвета карамели и очень большие. Мне иногда кажется, она бы могла ими меня выпить, если бы захотела. Что, уж поверьте мне, было бы здорово. Очень здорово.
— Соскучилась по тебе, — сказала она.
— Просидели вместе в машине три с половиной дня. Как можно было соскучиться?
Она слегка наклонила голову и смотрела мне в глаза, пока я не понял.
— А, — сказал я. — Ты хочешь сказать, что соскучилась по мне.
— Ну да.
Я кивнул.
— Насколько сильно?
Она сбросила полотенце.
— Даже так? — сказал я, и у меня вдруг запершило в горле. — С ума сойти!
После близости я некоторое время живу в мире слуховых и зрительных воспоминаний. Лежу в темноте, сердце Энджи бьется над моим, мои пальцы плотно прижаты к ее позвоночнику, я слышу эхо приглушенных стонов, внезапных вдохов, тихого смеха, когда мы оба иссякли, и она на мгновение запрокидывает голову, и ее темные волосы рассыпаются по спине. Лежа с закрытыми глазами, я мысленным взором вижу крупным планом ее нижнюю губу, слегка закушенную, ее коленку на белой простыне, движение лопатки под кожей, облачка мечты и страсти, которые вдруг заволакивают и увлажняют ее взор, розовые ногти, впивающиеся в кожу моего живота.
Еще примерно полчаса ни на что не годен, даже телефонный номер самостоятельно набрать. Большая часть двигательных навыков утрачивается. О том, чтобы вести содержательный разговор, нечего и думать. Я просто заново переживаю слуховые и зрительные ощущения.
— Э-эй! — Она легонько пощекотала меня по ребрам.
— Да.
— Ты когда-нибудь задумывался…
— Слушай, не сейчас.
Она засмеялась и лизнула меня в шею.
— Серьезно, ну, на секунду.
— Валяй, — покорно кивнул я.
— Ты когда-нибудь думаешь, что, в общем, когда ты во мне… что от этого может возникнуть новая жизнь?
Я приподнял голову, открыл глаза. Она спокойно смотрела на меня.
Поплывшая тушь под ее левым глазом в мягком полумраке спальни выглядела как синяк.
Это теперь наша спальня? Энджи по-прежнему владела домом на Хоуис-стрит, в котором выросла, здесь по-прежнему сохранялась почти вся ее мебель, но за последние два года она не провела там и ночи.
Наша спальня. Наша кровать. Наши простыни, закрученные между этих двух лежащих рядом тел с колотящимися сердцами, прижавшихся друг к другу так тесно, что со стороны было бы трудно понять, где кончается одно и начинается другое. Да и мне самому это иногда трудно.
— Ребенок, — сказал я.
Она кивнула.
— Принести, — медленно проговорил я, — в этот мир ребенка. Это при нашей-то работе.
Снова кивок, на этот раз ее глаза заблестели.
— Хочешь ребенка?
— Я этого не говорила, — прошептала она, пригнулась и поцеловала меня в кончик носа. — Я спросила, думаешь ли ты когда-нибудь. Ты когда-нибудь задумывался о власти, которой мы обладаем, занимаясь любовью в этой кровати, пружины которой скрипят, и мы сами поднимаем шум, и все так… ну, замечательно, и не просто от физических ощущений, но потому что мы соединены, я и ты, вот тут? — Она положила мне ладонь в низ живота. — Мы можем зачать новую жизнь, милый. Я и ты. Забуду принять таблетку — один шанс из — скольких? Сотни тысяч? — а во мне уже сейчас могла бы расти жизнь. Твоя жизнь. Моя. — Она поцеловала меня. — Наша. Когда мы лежим вот так, согретые теплом, так глубоко очарованные друг другом, легко пожелать зарождения в ней новой жизни. Все священное и загадочное, связанное с женским телом вообще и телом Энджи в частности, кажется, сосредоточено в этом коконе из простыней, мягком матрасе и расшатанной кровати. И все это стало так ясно вдруг.
Но мир этой кроватью не ограничивается. Он холоден, как бетон зимой, и в нем встречается зазубренное и острое. В нем полно чудовищ, которые когда-то были младенцами, возникли как зигота в утробе матери, появились оттуда в процессе единственного чуда, пережившего двадцатый век, и тем не менее появлялись недовольными, ущербными или обреченными таковыми стать. Сколько еще любовников лежали в подобных коконах, подобных кроватях и чувствовали то же, что и мы сейчас? И скольких чудовищ они породили? И скольких жертв для этих чудовищ?
— Ну, говори, — сказала Энджи и убрала мои влажные волосы у меня со лба.
— Я думал об этом, — сказал я.
— И?
— Я перед этим благоговею.
— Я тоже.
— Это меня пугает.
— Меня тоже.
— Сильно.
Ее глаза сузились.
— Как это?
— Маленьких детей находят в бочках с цементом, Аманда Маккриди исчезает, будто ее никогда и не было, педофилы бродят по улицам с мотками изоляционной ленты и нейлонового шнура. Этот мир — клоака, детка.
Она кивнула.
— И?
— Что «и»?
— Мир — клоака. Ладно. Но что из этого? Наши родители, наверное, знали, что мир — клоака, но все-таки произвели нас на свет.
— Счастливое, надо сказать, было у нас детство.
— А ты бы предпочел вообще не рождаться?
Я положил руки ей на крестец. Тело оторвалось от моего, простыня соскользнула со спины, Энджи устроилась у меня на бедрах и взглянула сверху вниз. Пряди волос выбивалась у ней из-за ушей. Обнаженная, прекрасная, она была ближе к совершенству, чем все, что видели мои глаза, чем любая моя мечта.
— Хотел бы я никогда не рождаться?
— Таков вопрос, — тихо сказала она.
— Конечно нет, — сказал я. — Но вот Аманда…
— Наш ребенок будет не Аманда.
— Откуда нам знать?
— Потому что мы не будем воровать у наркодилеров, и им не придется забирать у нас ребенка, чтобы вернуть свои деньги.
— Дети каждый день исчезают по куда менее серьезным причинам, сама прекрасно знаешь. Исчезают, потому что шли в школу и оказались в неподходящее время на неподходящем углу или потерялись, когда ходили с родителями по крупному универмагу. И они погибают, Энджи. Погибают.
Слеза упала ей на грудь и через мгновение скатилась через сосок и, уже успев остыть, холодной капнула мне на грудь.
— Знаю, — сказала она. — Но будь, что будет, я хочу от тебя ребенка. Не сегодня, может быть, даже не на будущий год. Но я хочу. Хочу произвести из своего тела нечто прекрасное, что будет как мы, но в то же время совершенно не похоже на нас.
— Хочешь ребенка.
Она покачала головой.
— Хочу ребенка от тебя.
Мы незаметно заснули.
По крайней мере, я. Но через несколько минут я проснулся, и оказалось, что Энджи нет. Я встал, прошел по темной квартире на кухню и нашел ее там за столом у окна. Через жалюзи на голое тело падали полоски лунного света.
Перед ней на столе лежали блокнот и папка с материалами об Аманде. Энджи посмотрела на меня и сказала:
— В живых они ее не оставят.
— Сыр и Маллен?
Она кивнула.
— Это было бы глупо. Они должны ее убить.
— Но ведь не убили пока.
— Откуда нам знать? И даже если действительно не убили, сохранят ей жизнь, пока не получат деньги. На всякий случай. Но потом им придется ее убить. Она все-таки много видела.
Я кивнул.
— Ты с таким ведь уже сталкивался? — спросила она.
— Да.
— Так завтра вечером?
— Я считаю, они оставят нам труп.
Энджи закурила, и ее лицо на мгновение осветилось пламенем зажигалки.
— И ты можешь с этим жить?
— Нет. — Я сел за стол рядом, положил руку ей на плечо и, ощущая нашу наготу, поймал себя на мыслях о власти, заключенной в наших телах, этой возможной третьей жизни, витавшей, как дух, между ее и моей голой кожей.
— Бубба? — спросила она.
— Конечно.
— Пулу и Бруссарду это не понравится.
— Потому-то и не надо им говорить, что он в игре.
— Если к моменту нашего появления в каменоломне Аманда будет все еще жива, мы сможем найти ее или хотя бы узнать, где она находится…
— Тогда Бубба положит любого, кто ее сторожит. Положит, как мешок с дерьмом, и исчезнет в ночи.
Она улыбнулась.
— Хочешь, позвоню ему?
Я подтолкнул к ней телефон.
— Сделай одолжение.
Набирая номер, она скрестила ноги, потом поднесла трубку к уху и наклонила к ней голову.
— Эй, воротила, — сказала Энджи, — не выйдешь сыграть завтра вечером?
Она некоторое время послушала, улыбка на лице стала шире.
— Если крупно повезет, даже застрелишь кого-нибудь.
У майора Джона Демпси из полицейского управления штата Массачусетс было широкое, как блин, ирландское лицо и настороженные, слегка выпученные глаза филина. Он даже и моргал, как филин. Внезапное сокращение мышц вызывало смыкание век, и в этом состоянии они оставались на десятую долю секунды дольше, чем бывает у большинства людей, потом поднимались, как жалюзи на окнах, и скрывались в глазницах. Как и у большинства полицейских, состоящих на службе штата, с которыми мне доводилось встречаться, позвоночник у него, казалось, представлял собой свинцовую трубку, а губы были бледны и очень тонки. На плоскость его бледного лица их будто бы нанесли жестким карандашом. Руки сливочно-белого цвета, пальцы длинные и женственные, ногти обработаны и гладкие, как ребро пятицентовой монеты. Но руками женственные черты в нем и ограничивались. Все остальное, казалось, состояло из глинистого сланца, и его худощавая фигура была настолько тверда и лишена жира, что, если бы он упал с подиума, наверняка разбился бы на кусочки.
Форма полицейских нашего штата, и особенно у высших чинов, всегда вызывала у меня тревожные ассоциации. Есть что-то агрессивно-тевтонское во всей этой начищенной, поблескивающей коже, явно выраженных эполетах и сверкающих серебром металлических деталях амуниции, в твердой полоске офицерского походного ремня, проходящего на груди от правого плеча к левому подреберью, в лишней четверти дюйма роста, добавленной тульей фуражки, надвинутой на лоб так, что козырек прикрывает глаза.
Городские же полицейские напоминают мне рядовых в старых фильмах про войну. Так и кажется, что, независимо от того, насколько аккуратно они одеты, от ползанья на животах по нормандскому берегу с промокшими сигарами в зубах и грязевыми потоками, струящимися по спинам, их отделяет всего один шаг. Но стоит взглянуть на типичных полицейских, состоящих на службе штата, — сжатые челюсти и надменно задранный подбородок, солнце сияет во всех этих металлических штуках, назначение которых блистать, — так сразу и вижу их идущими гусиным шагом по осенним улицам Варшавы году этак в тридцать девятом.
Вскоре после того, как все мы собрались, майор Демпси снял шляпу, обнаружив под ней вселяющие в наблюдателя некоторую тревогу оранжевые стриженые заросли, торчавшие из кожи, как яркие копья травинок из искусственного газона. Майор, видимо, догадывался о замешательстве, которое эта картина могла вызывать в посторонних. Он пригладил ладонями то, что росло по бокам головы, взял правой рукой со стола указку и несколько раз стукнул ею по ладони левой, с нескрываемым презрением осматривая зал глазами филина. Слева от него под гербом штата расположились лейтенант Дойл и начальник полиции Квинси, оба в своем самом лучшем, похоронном, и все трое, считая и герб, солидно и внушительно смотрели на собравшихся.
Все это происходило в конференц-зале управления полиции штата в Милтоне, поэтому его левую половину целиком экспроприировали хозяева, все как один с орлиным взором, гладко выбритые и тщательно отутюженные.
Первые ряды в правой половине зала занимали полицейские Квинси, последние — Бостона. Первые, по-видимому, старались походить на своих товарищей, находящихся на службе штата, хоть мне и удалось заметить у них несколько морщинок на одежде, а некоторые даже сбросили шляпы на пол себе под ноги. В основном это были молодые люди обоего пола, щеки у всех гладкие и лоснящиеся, как полосатый окунь, и я готов спорить: никто из них оружие на службе не применял ни разу.
Задние же ряды этой половины зала напоминали зону ожидания возле бесплатной столовки, где выдают суп беднякам и безработным. Полицейские в форме выглядели вполне достойно, но ребята и женщины из отдела по борьбе с преступлениями против детей, равно как и полчище детективов, на время приданных отделу из других подразделений, представляли собой разномастное сборище: кофейные пятна на одежде, щетина, отросшая к концу рабочего дня, дыхание, отдающее табачным перегаром, взъерошенные волосы, одежда до того мятая, что в складках можно было бы скрывать различные мелкие технические устройства. Большинство из них привлекли к поискам Аманды Маккриди с самого начала, и у них был вид «не-нравится? — ну-и-пошел-ты!», характерный для всех полицейских, которым слишком много приходится работать сверхурочно и слишком много стучаться в чужие двери. В отличие от полицейских штата и Квинси, одни представители бостонского контингента развалились в креслах, другие норовили дать друг другу пинка и много кашляли.
Мы с Энджи приехали перед самым началом собрания и заняли места в последнем ряду. В свежевыстиранных черных джинсах, черной хлопчатобумажной блузе навыпуск и коричневом кожаном пиджаке Энджи была вполне нарядной, чтобы сидеть с полицейскими из Квинси, но я оделся в заношенное в стиле пост-Сиэтл гранж[25] — рваную фланелевую рубашку поверх белой футболки с героями мультиков Реном и Стимпи и джинсы в крапинках белой краски. Кроссовки выше щиколотки, правда, были великолепные и совсем новые.
— Это такие надо накачивать? — спросил Бруссард, когда мы заняли свои места рядом с ним и Пулом.
Я смахнул пылинку со своих новехоньких корочек.
— Не.
— Плохо. Мне нравятся на воздушной подушке, которую накачивать надо.
— Как сказано в рекламе, в таких можно прыгнуть в высоту, как баскетболист Пенни Хардуэй, и закадрить двух цыпочек сразу.
— Ну что ж, тогда не зря деньги отдал.
За спиной у майора Демпси двое полицейских повесили на стену большую топографическую карту карьеров Квинси и заповедника Блю-Хиллс. После этого Демпси поднял указку и постучал ею по середине карты.
— Каменоломня Грэнит-Рейл, — сухо начал он. — Последние события, связанные с исчезновением Аманды Маккриди, позволяют полагать, что обмен состоится сегодня вечером в двадцать ноль-ноль. Похитители желают обменять ребенка на сумку с украденными деньгами, находящуюся в настоящий момент в распоряжении полицейского департамента Бостона. — Он описал указкой большой круг на карте. — Как видите, выбор преступников пал на каменоломни, поскольку здесь имеются мириады путей отхода.
— Мириады, — пробормотал Пул себе под нос, — хорошее словечко.
— Даже имея в своем распоряжении вертолеты и личный состав, сосредоточенный в стратегических точках как вокруг каменоломен, так и заповедника Блю-Хиллс, охватить такую территорию будет непросто. Похитители потребовали, чтобы вечером здесь находилось всего лишь четыре человека, что еще только усложняет дело. До совершения обмена наше присутствие должно быть совершенно незаметно.
Какой-то полицейский поднял руку и прочистил горло.
— Майор, как можно выдвинуться к периметру территории и при этом оставаться невидимыми?
— Тут-то и закавыка. — Демпси провел рукой по подбородку.
— Он только что этого не говорил, — прошептал Пул.
— Сказал.
— Ну и ну!
— Командный пункт номер один, — продолжал Демпси, — будет расположен в этой долине, у подножия Кроличьего склона Блю-Хиллс. Отсюда до верхней части каменоломни Грэнит-Рейл на вертолете менее минуты лету. Основные наши силы будут сосредоточены здесь. Как только поступит сообщение о совершении обмена, рассредоточиваемся вокруг заповедника, блокируем с обоих концов: улицу Каменоломни, дороги Чикатобат и Со-Кат-Нотч, перекрываем северный и южный въезды на юго-восточную автомагистраль, а также соответствующие выезды с нее и изолируем всю эту зону со всеми бебехами и причиндалами.
— Бебехами, — повторил Пул.
— Причиндалами, — выдохнул Бруссард.
— Командный пункт два будет расположен при входе на кладбище Квинси, командный пункт номер три…
Следующий час Демпси излагал план действий и расписывал задачи для полицейских, находящихся на службе штата и местного департамента полиции. В операции должно было принять участие более ста пятидесяти человек, исходные позиции которых находились вокруг Квинси и по границе заповедника Блю-Хиллс. Для операции выделили три вертолета. Ведение переговоров с похитителями Аманды возлагалось на элитную группу департамента полиции Бостона. Предполагалось, что лейтенант Дойл и начальник полиции Квинси будут изображать «бродяг», разъезжая по тем карьерам, где нет воды, каждый на своей машине с выключенными фарами.
— Не дай бог, столкнутся, — сказал Пул.
Каменоломни, на пике гранитного бума в Новой Англии их было более шестидесяти, занимали большую территорию. Грэнит-Рейл оставалась одной из двадцати двух пока еще незатопленных. Все они находились в холмистой местности между скоростной автомагистралью и Блю-Хиллс. Выдвигаться предстояло в темноте, по возможности не зажигая огней. Даже сотрудники заповедника, по просьбе Демпси приехавшие на собрание, чтобы рассказать о местности, признавали, что в холмах множество тропинок, и некоторые из них известны лишь тем, кто ими пользуется.
Но дело было даже не в тропинках. Тропинки, в конце концов, куда-то вели, и там, куда они вели, было мало дорог, общественный парк или даже два. Даже если бы похитителям Аманды удалось пройти через оцепление на холмах, их задержали бы где-нибудь уже внизу. Будь нас четверо да еще несколько полицейских для ведения наблюдения за холмами, я бы уже считал, что преимущество на стороне Сыра. Но как можно выдвигаться и отходить незаметно при участии ста пятидесяти человек — я понять не мог.
Каких бы дураков ни набрал себе в помощники Сыр, даже они должны были понимать, что, независимо от характера их требований, при передаче заложника всегда собирается много полиции.
Как же они планировали уйти?
Дождавшись паузы, я поднял руку. Демпси это заметил, но, как мне показалось, решил притвориться, что не видит. Поэтому пришлось позвать его:
— Майор!
Он опустил глаза на свою указку.
— Да.
— Я не понимаю, как похитители планируют уйти.
Несколько человек в зале захихикали, и Демпси улыбнулся.
— Ну, мистер Кензи, в этом как раз все и дело, не так ли?
Я улыбнулся ему в ответ.
— Я понимаю, но вам не кажется, что и похитители тоже это понимают?
— Что вы имеете в виду?
— Для обмена они сами выбрали именно это место. Должны были понимать, что вы его оцепите. Ведь верно?
Демпси пожал плечами:
— Имея дело с преступниками, люди тупеют.
По рядам, занятым полицейскими в синих мундирах, пробежал вежливый смешок.
Я подождал, пока шум стихнет.
— Майор, если они предусмотрели полицейское оцепление, что тогда?
Улыбка на лице Демпси стала еще шире, но глаза филина в ней участия не принимали, наоборот, они сощурились, и майор, слегка озадаченный и явно недовольный, некоторое время молча смотрел на меня.
— Им никуда не деться, мистер Кензи. Не важно, что они думают. Шансы ускользнуть у них миллиард к одному.
— Но они на этот один и рассчитывают.
— Ну и зря. — Демпси посмотрел на свою указку и нахмурился. — Еще глупые вопросы будут?
В шесть мы встретились с детективом Марией Дикема из группы переговорщиков в фургоне, стоявшем у водонапорной башни метрах в тридцати от проезда Риккиути, дороги, прорезанной в самом сердце карьеров Квинси. Это была худенькая миниатюрная женщина чуть за сорок с коротко стриженными молочного цвета волосами и миндалевидными глазами, в темном деловом костюме, и большую часть встречи она машинально теребила жемчужную сережку в левом ухе.
— Если кто-то из вас встретится лицом к лицу с похитителем и ребенком, что будете делать? — Она скользнула взглядом по нашим лицам и остановила его на стенке фургона, где кто-то прилепил картинку из «Нэшнл Лэмпун»,[26] на которой под заголовком «Купите наш журнал, а не то мы убьем этого пса» был изображен пистолет, приставленный к голове собаки. — Я жду, — сказала Мария.
— Мы скажем подозреваемому, — начал Бруссард, — отпустить…
— Вы попросите подозреваемого, — поправила она.
— Мы попросим подозреваемого отпустить ребенка.
— А если он ответит «Да пошли вы на хрен» и взведет курок? Что тогда?
— Тогда мы…
— Тогда вы отступите, — сказала она, — держите его в пределах видимости, но дайте свободу действий. Запаникует — ребенок погиб. Почувствует угрозу — тоже самое. Первое, и главное, — дайте ему иллюзию пространства, иллюзию свободы маневра. Нельзя позволять ему вами командовать, но также не надо, чтобы он чувствовал себя беспомощным. Вы заинтересованы в том, чтобы ему казалось, что у него есть какие-то возможности. — Мария отвернулась от картинки на борту фургона, потянула себя за сережку и по очереди посмотрела в глаза каждому из нас. — Вам понятно?
Я кивнул.
— Ни в коем случае не наводите на подозреваемого оружие. Не делайте резких движений. Если собираетесь что-то сделать, предупреждайте его. Например: «Сейчас я отойду назад. Сейчас я опущу пистолет». И так далее.
— Нянчиться с ним, как с ребенком, — сказал Бруссард, — вот что вы нам рекомендуете.
Она слегка улыбнулась, не отрывая взгляда от подола своей юбки.
— Детектив Бруссард, я в группе переговорщиков уже десять лет, и за это время у нас погиб всего один ребенок. Хотите в подобной ситуации выпятить грудь колесом и заорать «Лежать, сука!» — ради бога. Но сделайте одолжение, избавьте меня потом от выступлений по телевидению, если преступник своим выстрелом размажет сердце Аманды Маккриди вам по рубашке. — Сказав это, она посмотрела на Бруссарда и приподняла бровь. — Договорились?
— Детектив, — сказал Бруссард, — я же не спрашиваю, как вы справляетесь со своей работой. Я просто высказал свое мнение.
Пул кивнул.
— Если для спасения девочки надо будет нянчиться с кем-то, так я преступника в люльку уложу и колыбельные петь буду. Даю вам слово.
Мария вздохнула, выпрямилась и провела обеими руками по волосам.
— Вероятность налететь на преступника с Амандой Маккриди близка к нулю. Если все же налетите на них, помните, эта девочка — последнее их спасение. Человек берет заложника, потом оказывается в безвыходном положении, как крыса, загнанная в угол. Такие обычно сами очень боятся, и убить человека для них проще простого. В этой ситуации они не будут винить себя, не будут винить вас. Они будут винить Аманду. Допустите неосторожность — перережут ей горло.
Мария помедлила, давая нам возможность осмыслить сказанное. Потом достала из кармана костюма визитные карточки и раздала по одной каждому.
— У всех есть мобильные телефоны?
Мы кивнули.
— Здесь мой номер. Попадете в тупиковую ситуацию с этим преступником, исчерпаете аргументы, звоните мне, а телефон дайте ему. Договорились?
Она посмотрела в заднее окно на черные отвесные скалы, карьеры, торчащие в небо заостренные силуэты гранитных утесов.
— Карьеры, — сказала она. — И кто такое место выбрал?
— Нельзя сказать, что отсюда просто выбраться, — сказала Энджи. — При данных обстоятельствах.
Детектив Дикема кивнула.
— И тем не менее они выбрали именно его. Что они знают такого, чего мы не знаем?
В семь мы собрались на командном пункте полицейского департамента Бостона, где лейтенант Дойл ободрил нас на свой лад:
— Облажаетесь — имейте в виду, тут достаточно высоких утесов, прыгнуть можно с любого. Поэтому, — и лейтенант похлопал Пула по коленке, — не облажайтесь.
— Вдохновляющая речь, сэр.
Пул потянулся под приставной столик, достал оттуда голубую спортивную сумку и бросил ее Бруссарду на колени.
— Деньги мистер Кензи доставил сегодня утром. Все пересчитаны, номера записаны. В сумке ровно двести тысяч. Ни грошом меньше. Смотрите, чтобы столько и вернули похитителям.
Из приемника рации, занимавшей добрую треть приставного столика, послышался треск помех и голос проговорил:
— Командный, вызывает пять-девять. Прием.
Дойл взял приемник и включил тумблер «Исходящий».
— Командный. Говорите, пятьдесят девятый.
— Маллен вышел из Девоншир-плейс и в желтом такси направляется на запад по автостраде Сторроу. Следуем за ним. Прием.
— На запад? — сказал Бруссард. — С чего бы это ему ехать на запад? И по Сторроу?
— Пятьдесят девятый, — сказал Дойл, — вы уверены, что это именно Маллен?
— Ах… — последовала долгая пауза, во время которой из приемника доносились только помехи.
— Повторите, пятьдесят девятый. Прием.
— Командный, мы перехватили переговоры Маллена с коммутатором такси, видели, как он вышел через черный ход Девоншир-плейс и сел в машину. Прием.
— Пятьдесят девятый, вы как-то неуверенно это все говорите.
— Командный, мы видели этого человека, по описанию он вполне соответствует Маллену. В кельтской шапочке и солнечных очках. Прием.
Дойл на мгновение закрыл глаза и приложил приемник себе ко лбу.
— Пятьдесят девятый, вы уверены, что это подозреваемый Маллен? Или не уверены? Прием.
Последовала еще одна долгая пауза, в динамике трещали помехи.
— Командный, сейчас я поразмыслил, и мне кажется, что нет. Но мы почти уверены…
— Пятьдесят девятый, кто вел с вами наблюдение за Девоншир-плейс? Прием.
— Шесть-семь, командный. Сэр, прикажете нам…
Дойл прервал связь, переключив тумблер, нажал кнопку на рации и заговорил в микрофон:
— Шесть-семь, вызывает командный. Ответьте. Прием.
— Командный, это шестьдесят седьмой. Прием.
— Где вы находитесь?
— К югу от Тремонта, командный. Пеший напарник. Прием.
— Шесть-семь, почему вы у Тремонта? Прием.
— Следую за подозреваемым, командный. Подозреваемый следует пешком на юг через зону отдыха. Прием.
— Шесть-семь, вы хотите сказать, что ведете Маллена к югу от Тремонта?
— Ответ утвердительный, командный.
— Дайте указание напарнику задержать подозреваемого, шесть-семь. Прием.
— Принято, сэр.
Дойл положил динамик на приставной столик, пощипал себя за переносицу и вздохнул.
Мы посмотрели на Пула и Бруссарда. Бруссард пожал плечами. Пул недовольно покачал головой.
— Командный, это шестьдесят седьмой. Прием.
Дойл поднял динамик:
— Говорите.
— Да, командный, мы, в общем…
— Тот, за кем вы едете, не Маллен. Подтверждаете?
— Подтверждаю, командный. Этот тип был одет, как подозреваемый, но…
— Конец связи, шесть-семь.
Дойл бросил приемником в рацию, покачал головой, откинулся на спинку стула и посмотрел на Пула.
— Где Гутиеррес?
Пул сложил руки на коленях.
— Когда я последний раз проверял, он был в отеле «Пруденшл-Хилтон». Приехал вчера вечером из Лоуэлла.
— Кто к нему приставлен?
— Команда из четырех человек. Дин, Гэллахер, Глисон и Хелперн.
Дойл сверил фамилии со списком, лежавшим перед ним на столе, в котором были указаны номера этих полицейских.
— Номер сорок девять, — сказал Дойл, включив тумблер на рации. — Говорит командный. Ответьте. Прием.
— Командный, это сорок девятый. Прием.
— Где вы находитесь? Прием.
— Далтон-стрит, командный, у отеля «Хилтон». Прием.
— Сорок девятый, где, — Дойл сверился с лежавшим перед ним списком, — где номер семьдесят три? Прием.
— Детектив Глисон в аванзале, командный. Детектив Хелперн прикрывает черный ход. Прием.
— Где подозреваемый? Прием.
— Подозреваемый у себя в номере, командный. Прием.
— Убедитесь в этом, сорок девятый. Прием.
— Принято. Проверим, свяжемся с вами и доложим. Конец связи.
Мы стали ждать, пока они проверят номер Гутиерреса. Все молчали и даже друг на друга не смотрели. Вот так бывает, когда смотришь по телевизору футбол, и твоя команда выигрывает шесть очков, и до конца матча четыре минуты, но все-таки чувствуешь, что продуют. Вот так и мы все, сидя в глубине командного пункта, чувствовали, как все те преимущества, которые у нас могли бы быть, ускользают под дверью в сгущающиеся сумерки. Если уж четыре опытных детектива так легко дали уйти Маллену, то сколько же раз он проделывал подобный номер за последние несколько дней? Сколько раз полиция, будучи уверена, что следит за Малленом, следила за кем-то другим? Маллен, насколько мы понимали, мог навещать Аманду Маккриди. Мог готовить отход из этих холмов на сегодняшний вечер. Мог подкупать полицейских, чтобы они некоторое время смотрели куда-нибудь в другую сторону, или выбирать тех, кого надо будет убрать в наступившей темноте среди этих холмов после восьми часов.
Если Маллен с самого начала знал, что мы следим за ним, он мог показать все, что нам хотелось видеть, а сам в это время тайком от нас занимался тем, чего нам видеть и знать не следовало.
— Командный, это сорок девятый. У нас непредвиденное затруднение. Гутиеррес исчез. Повторяю, Гутиеррес исчез. Прием.
— Как давно, сорок девятый? Прием.
— Трудно сказать, командный. Его машина, взятая напрокат, по-прежнему стоит в гараже. Последний раз его видели в ноль семь ноль ноль. Прием.
— Конец связи с командным.
Сжав в кулаке приемник, Дойл обдумал сложившуюся ситуацию, потом аккуратно положил его на угол приставного столика.
— У него в гараже, наверное, — сказал Бруссард, — за день или два до вселения в отель была приготовлена другая машина.
Дойл кивнул.
— Я запрашивал другие группы. Сколько, по-вашему, людей Оламона находится неизвестно где?
Ответа на этот вопрос никто из нас не знал, да, по-моему, Дойл и не рассчитывал его услышать.
Если от моего родного квартала поехать на юг и пересечь реку Непсонет, то окажетесь в Квинси, месте, которое поколение моего отца долго воспринимало как перевалочный пункт для ирландцев достаточно состоятельных, чтобы покинуть Дорчестер, но недостаточно богатых, чтобы поселиться в Милтоне, фешенебельном предместье в нескольких километрах к северо-западу от Квинси, населенном потомками выходцев из Ирландии, в домах которого квартиры имели по два туалета сразу. Если ехать дальше на юг по Интерстейт-93, непосредственно перед Брайантри, на западе увидите несколько песчано-коричневых холмов, которые, как всегда кажется, того и гляди обвалятся.
Именно в этих холмах великие старцы из Квинси былых времен обнаружили гранит столь богатый черными силикатами и матовым кварцем, что он, должно быть, сверкал у них под ногами, как ручей, дно которого усыпано алмазами. Первую коммерческую железную дорогу здесь построили в 1827 году, и первый ее рельс на холмах под Квинси крепили к земле костылями, которые в ней держались непрочно, и к шпалам металлическими болтами, чтобы можно было перевозить гранит к берегу Непонсета, где его грузили на баржи и отправляли в Бостон или вниз по течению к Манхэттену, Новому Орлеану, Мобилу или Саванне.
Этот гранитный бум, продолжавшийся столетие, оставил после себя сооружения, неподвластные времени и моде — солидные библиотеки и правительственные здания, впечатляющие своей высотой церкви и тюрьмы, которые не допускали в себя со свободы ни шума, ни солнечного света, ни надежды на побег, здания таможен по всей стране с монолитными желобчатыми колоннами и памятник на Банкер-Хилл. На месте же добытого камня остались в земле карьеры. Глубокие. Широкие. Карьеры, которые заполняли только водой.
Со временем добыча гранита сошла на нет, каменоломни стали излюбленным местом свалок почти для всего: краденых машин, старых холодильников и духовок, трупов. Каждые несколько лет, когда, нырнув со скалы, в таких водоемах вдруг исчезает ребенок, или осужденный на пожизненное заключение в Уолпоуле[27] рассказывает полиции, что столкнул с прибрежной скалы шлюху, которую с тех времен как раз никто и не видел, залитые водой карьеры начинают прочесывать. Тогда в газетах появляются топографические схемы и данные подводной фотосъемки, на которых видны горные хребты, скалы, яростно расчлененные и будто бы извергнутые землей из собственных недр, из глубин торчат какие-то зазубренные иглы, на тридцатиметровой глубине вдоль среза скалы, как призраки Атлантиды, громоздятся утесы.
Иногда находят и тела. Иногда — нет. В воде карьеров иногда почему-то взмучивается черный осадок, случаются необъяснимые и внезапные изменения подводного рельефа, возникают не нанесенные на карты многочисленные уступы и трещины, которые выдают свои тайны так же редко и неохотно, как Ватикан свои.
Мы продирались вверх по откосу старой железной дороги, обламывая ветки, грозившие ударить по лицу, выпутывая ноги из высокой травы, спотыкаясь в темноте о камни, едва не падая на их скользкой поверхности и чертыхаясь себе под нос. Я все думал о том, что, были бы мы пионерами-первопоселенцами, пытавшимися пройти через эти холмы к водоему по другую сторону Блю-Хиллс, нас бы давно уже не было в живых. Какой-нибудь медведь, или рассвирепевший лось, или отряд воинов-индейцев отправил бы нас на тот свет, чтобы не нарушали покой природы.
— Попробуйте погромче, не стесняйтесь, — сказал я Бруссарду, когда он поскользнулся в темноте, ударился голенью о валун и потом поднимался так долго, что впору было этому валуну еще добавить.
— Э, — ответил он, — я вам что, Иеремию Джонсона[28] напоминаю? Последний раз на природе я был пьян, занимался сексом и к тому же мог видеть шоссе.
— Занимались сексом? — сказала Энджи. — Бог ты мой!
— Имеете что-то против секса?
— Имею кое-что против насекомых, — сказала Энджи. — Такая пакость.
— Правду говорят, что запах от занимающихся сексом в лесу привлекает медведей? — спросил Пул.
— Тут уж давно никаких медведей не осталось.
— Как знать, — сказал Пул, посмотрел в сторону темневших деревьев, поставил сумку с деньгами себе под ноги, достал из кармана носовой платок, промокнул пот на шее, утер раскрасневшееся лицо, надул щеки и шумно выдохнул. Потом несколько раз сглотнул.
— Все нормально, Пул?
Он кивнул.
— Порядок. Просто форму потерял. И еще… да, старею.
— Хотите, кто-нибудь понесет сумку? — спросила Энджи.
Пул состроил гримасу, означавшую, что в этом нет необходимости, поднял с земли ношу и указал вверх по склону.
— «Снова ринемся, друзья, в пролом».[29]
— Это же не пролом, — сказал Бруссард, — это холм.
— Я Шекспира цитирую, невежда. — Пул оторвался от дерева и тяжело пошел в гору.
— Тогда надо было сказать «Корону за коня»,[30] — заметил Бруссард. — Это уместней.
Энджи несколько раз глубоко вздохнула, Бруссард — тоже, они переглянулись.
— Старые мы стали.
— Да, стареем, — согласился он.
— Думаете, пора на покой?
— Я бы с удовольствием. — Он улыбнулся, согнулся и еще раз глубоко вдохнул. — Жена моя попала в автомобильную катастрофу прямо перед свадьбой, переломала себе кости. Медицинской страховки не было. Представляете, сколько стоит лечение переломов? Господи, да чтобы на пенсию выйти, мне сначала придется с ходунками за преступниками погоняться.
— Кто-то сказал «ходунок»? — переспросил Пул и посмотрел на крутой склон. — Ходунок сейчас был бы кстати.
Мальчишкой я несколько раз ходил этой тропой к заполненным водой карьерам Грэнит-Рейл и Суинглс. Вообще-то здесь была запретная зона, ее, разумеется, охраняли люди комиссии Метрополитен Дистрикт, но в сетчатой изгороди, если знать места, всегда находились дыры. Кроме того, можно было принести кусачки и проделать себе персональный лаз. Охранников снабжали плохо, и, будь их тут даже целая армия, патрулировать десятки карьеров и уследить за сотнями детей, стремившихся к ним в невыносимый летний зной, они все равно бы не смогли.
Так что на этот склон я уже лазил. Пятнадцать лет назад. При свете дня.
Сейчас все было несколько иначе. Во-первых, я был совсем не в той форме, что в подростковом возрасте. Слишком много набил себе синяков, слишком много ходил по барам, на работе претерпел чересчур много столкновений с людьми и бильярдными столами, а однажды ветровое стекло и дорога остались ждать меня по ту сторону границы бытия и небытия. Короче говоря, все у меня похрустывало, болело или ныло, как у старика или профессионального игрока в американский футбол.
Во-вторых, как и Бруссард, я был не совсем Гризли Эдамс.[31] Обходиться без асфальта и хорошего гастрономического магазина я могу, но не бесконечно. Раз в год с семьей сестры поднимаюсь на гору Рейниа на севере штата Вашингтон. Четыре года назад меня силой заставила пойти в поход по штату Мэн одна женщина, считавшая себя любителем природы и натуралистом, поскольку покупала себе кое-что в армейских магазинах. Поход планировался на три дня, но выдержали мы всего один вечер, пока не израсходовали баллончик с репеллентом, после чего сбежали к белым простыням в Камден, туда, где еду и напитки подают в номера.
Мы карабкались по откосу к карьеру Грэнит-Рейл, я смотрел на своих спутников и думал, что, пожалуй, первый вечер того похода никто бы из них не выдержал. Возможно, при свете дня, при наличии подходящей обуви, крепких походных палок или первоклассного подъемника, вроде тех, что работают на горнолыжных курортах, мы бы продвигались с приличной скоростью, но тут только минут через двадцать мучительной борьбы с силой земного притяжения наши фонарики стали выхватывать из темноты отпечатки или даже чудом сохранившиеся шпалы железной дороги, по которой почти сто лет назад перестали ходить поезда, и в воздухе повеяло водой.
Ничто не имеет такого чистого, холодного и многообещающего запаха, как вода в карьере. Уж не знаю, отчего это так. Возможно, дело в том, что в этих гранитных берегах десятилетиями скапливаются осадки и потом подпитываются горными ключами, но, едва узнав этот запах, я снова почувствовал себя шестнадцатилетним. Снова пережил это ощущение, когда за гребнем Небесного пика, двадцатиметрового утеса у карьера Суинглс, сердце екает в груди, и внизу, как подставленная рука просящего, открывается светло-зеленая гладь, и чувствуешь свою невесомость и бестелесность, будто стал бесплотным духом, носящимся над бездной. И летишь вниз, и поток воздуха, как торнадо, бьет навстречу от приближающейся зеленой воды, и граффити с уступов, стен, утесов вокруг взрываются, брызжут красными, черными, золотыми и синими буквами, и за мгновение до касания поверхности оттянутыми носками и плотно прижатыми к бокам руками чувствуешь этот чистый, холодный и неожиданно пугающий запах скопившейся за столетие воды и уходишь глубоко в нее, туда, где свалены эти машины, холодильники и покойники.
Наши карьеры отнимают по одной едва начавшейся жизни примерно раз в четыре года, не говоря уж о трупах, которые сбрасывают сюда под покровом ночи и обнаруживают, если до этого вообще доходит, только через несколько лет. В статьях газет, редакционных и обычных, общественные активисты и безутешные родители не перестают задавать вопрос «Почему?».
Почему дети — карьерные крысы, как мы называли себя в детстве, — чувствуют потребность прыгать с высоты тридцать метров в водоем в два раза большей глубины, на дне которого чего только нет: и непонятно как оказавшиеся тут куски породы, и торчащие вверх антенны машин, и бревна.
Я на такой вопрос ответить не могу. Я прыгал, потому что был ребенком. Потому что отец у меня был редкий поганец, а дома что ни день проходила новая полицейская операция, и мы с сестрой занимались главным образом тем, что искали себе убежища, что, вообще говоря, нормальную жизнь напоминало довольно слабо. Потому, наверное, что, стоя на этих скалах и глядя вниз на перевернутый резервуар с зеленоватой водой, который принимал правильное положение и становился виден тем лучше, чем сильнее вытягивалась моя шея, я чувствовал холодок в животе и мысленным взором осматривал малейшие части собственного тела, каждую косточку, каждый кровеносный сосуд. Потому что чувствовал себя свободным в воздухе и чистым в воде. Я прыгал, чтобы доказать что-то своим друзьям и, доказав и испытывая потребность доказывать еще и еще, искал способы забраться на еще более высокие утесы, чтобы полет к воде продолжался дольше. Я прыгал потому же, почему стал частным детективом, — потому что не хочу заранее знать, что будет дальше.
— Дайте передохнуть, — сказал Пул. Держась за толстый ствол вьющегося растения, он навалился на него так, что пригнул к самой земле, выронил спортивную сумку, поскользнулся и упал на нее, продолжая крепко держаться за ствол.
До конца подъема оставалось около пятнадцати метров. Сразу за ним уже угадывалось зеленое мерцание воды, оно отражалось от темных утесов и маячило, как облачко, на фоне черно-кобальтового неба.
— Конечно, старина, конечно. — Бруссард остановился рядом с напарником. Пул учащенно дышал, положив фонарик себе на колени.
Таким бледным я его ни разу не видел. Он просто светился в темноте. Хрипловатое дыхание процарапывало себе путь сквозь бронхи в темноту, глаза плавали в глазницах, казалось, в поисках чего-то, что никак не могли найти.
Энджи стала рядом на колени, положила руку ему на шею под челюсть и нащупала пульс.
— Вдохните поглубже.
Пул кивнул, выпучил глаза и втянул в себя воздух.
Бруссард присел перед ним на корточки.
— Ты в порядке, дружище?
— Все нормально, — выдавил из себя Пул. — Пустяки.
Пот с лица стекал у него по шее, воротник рубашки стал совсем мокрым.
— Стар я уж таскаться, — он кашлянул, — по горам.
Энджи взглянула на Бруссарда. Тот посмотрел на меня.
Пул покашлял еще. Я посветил фонариком и заметил у него на подбородке мелкие крапинки крови.
— Минуточку, — сказал я и покачал головой.
Бруссард кивнул и вытащил из-под куртки рацию.
Пул схватил его за руку, но так закашлялся, что я уж решил, что приступ будет продолжаться не меньше минуты.
— Не вызывайте, — сказал Пул. — По условию, посторонних быть не должно.
— Пул, — сказала Энджи, — с вами что-то неладно.
Он посмотрел на нее и усмехнулся:
— Все нормально.
— Ни хрена себе нормально, — сказал Бруссард и отвернулся, чтобы не видеть кровь.
— Правда. — Пул пошевелился, сидя на земле, и зажал ствол вьющегося растения в локтевом сгибе. — Идите, ребятки, идите в гору. — Он улыбнулся, но уголки рта, выделявшиеся на фоне бледных щек, заметно дрожали.
Мы стояли рядом и смотрели на него, все понимали, что дело плохо. Лицо стало цвета сырого эскалопа, взгляд блуждал, казалось, он не может ни на чем его сосредоточить. Дыхание вырывалось с хрипом и походило на шум дождя, стучащего по оконному светофильтру. Пул по-прежнему держал Бруссарда за запястье, сжимая крепко, как тюремщик. Он все-таки обвел взглядом наши лица и, видимо, понял, о чем мы думаем.
— Я старый и весь в долгах, — сказал он. — Все будет хорошо. А девочку не найдете — ей конец.
— Я ее не знаю, Пул, понимаешь? — сказал Бруссард.
Пул кивнул и еще сильнее сдавил его запястье, кожа на котором рядом с пальцами Пула покраснела.
— Спасибо за эти слова, сынок. Правда спасибо. Чему я учил тебя в первую очередь?
Энджи перевела луч фонарика с груди Пула на лицо Бруссарда. Он посмотрел в сторону, и его глаза заблестели.
— Чему я учил тебя в первую очередь? — повторил Пул.
Бруссард прочистил горло и плюнул в темноту.
— А? — настаивал Пул.
— Доводить дело до конца, — сказал Бруссард таким голосом, будто Пул отпустил запястье и взял его за горло.
— Всегда, — сказал Пул. Он закатил глаза, указывая ими на гребень холма у себя за спиной. — Поэтому иди заканчивай.
— Я…
— Не смей меня жалеть, парень. Не смей. Бери сумку.
Бруссард опустил голову, уперся подбородком себе в грудь, наклонился, вытащил из-под Пула сумку и отряхнул ее дно.
— Иди, — сказал Пул. — Ну же.
Бруссард высвободил запястье из пальцев Пула, поднялся, выпрямился и осмотрел темневшие вокруг кусты, как ребенок, которому только что объяснили значение слова «самостоятельно».
Пул посмотрел на нас с Энджи и улыбнулся.
— Очухаюсь. Спасете девочку, вызовите эвакуационную группу.
Я отвернулся. Насколько я мог судить, Пул только что пережил инфаркт или инсульт. И то, что он кашлял кровью, не давало никакого повода для оптимизма. Я смотрел на человека, который без неотложной помощи был обречен.
— Я останусь с вами, — сказала Энджи.
Мы посмотрели на нее. Она стояла на коленях возле Пула с того самого момента, как он осел на землю. Энджи провела ладонью по его совершенно белому лбу и коротко стриженным волосам.
— Хрен ты останешься, — сказал Пул и шлепнул ее по руке. Он поднял голову и посмотрел ей в лицо. — Этот ребенок может сегодня погибнуть, мисс Дженнаро.
— Энджи.
— Этот ребенок может сегодня погибнуть, Энджи. — Пул скрипнул зубами, сморщил лицо от боли и с трудом глотнул, видимо надеясь таким образом от нее избавиться. — Если мы чего-нибудь не предпримем. Чтобы вытащить ее отсюда целой и невредимой, нужен каждый из присутствующих. Так. — Он повозился со стволом ползучего растения и все-таки ухитрился сесть чуть прямее. — Вы сейчас идете к тем карьерам. И вы тоже, Патрик. — Он обернулся к Бруссарду: — А ты и подавно, черт возьми. Все, идите. Идите же!
Никто из нас не пошевелился. Все было слишком очевидно. Но Пул вдруг вытянул руку и развернул к нам тыльной стороной ладони. Светившиеся стрелки наручных часов показывали три минуты девятого.
Мы уже опаздывали.
— Идите же, — прохрипел Пул.
Я посмотрел на вершину холма, потом в сторону, туда, где позади Пула темнели деревья, потом на него самого. Он полулежал, раскинув ноги в стороны, один ботинок был как-то неестественно вывернут на сторону — чучело без шеста.
— Идите.
Так мы его и оставили.
Стали карабкаться на холм, Бруссард шел первым. Тропинка, шедшая среди зарослей высокой травы и ежевики, местами едва угадывалась. Когда мы останавливались, и прекращалось вызванное нами шуршание травы и кустов, вокруг наступала такая тишина, что легко можно было поверить, что, кроме нас, тут никого нет.
За три метра до гребня нам встретилась сетчатая изгородь, но серьезного препятствия она собой не представляла, так как в ней был вырезан кусок шириной с ворота гаража. Мы не останавливаясь прошли дальше.
На гребне Бруссард остановился, достал уоки-токи и шепнул в него:
— Добрались до карьера. Сержанту Рафтопулосу плохо. По моему сигналу, повторяю, по моему сигналу высылайте эвакуационную группу на железнодорожную насыпь, он в четырнадцати метрах ниже полотна. Ждите моего сигнала. Прием.
— Вас понял.
— Конец связи. — Бруссард убрал уоки-токи под плащ.
— Что теперь? — спросила Энджи.
Мы стояли на скале в двенадцати метрах над водой. В темноте виднелись силуэты утесов, согнутых деревьев и уступов. Слева от нас изрезанный и раскрошенный гранит образовывал на фоне неба восходящую линию с несколькими заостренными пиками, возвышавшимися еще на три-четыре метра над уровнем скалы, на которой стояли мы. Справа от нас начиналась ровная площадка, которая метров через пятьдесят поворачивала, на ней, насколько можно было видеть в луче фонариков, сначала редко, потом все чаще виднелись беспорядочно разбросанные глыбы. Внизу ждала вода, большой светло-серый круг, заметный на фоне черных утесов.
— Женщина, звонившая Лайонелу, велела ждать указаний, — сказал Бруссард. — Вы видите какие-нибудь указания?
Энджи посветила фонариком нам под ноги, на гранитные скалы, согнутые дугами кусты и стволы деревьев. Дрожащий луч выхватывал из темноты отдельные детали причудливого ландшафта, в котором на расстоянии в несколько дюймов могли соседствовать камень, мох, пораненная белая кора и растительность цвета зеленой мяты. Среди деревьев, как лента для чистки зубов, серебристой полоской тянулась изгородь из сетки.
— Не вижу никаких указаний, — сказала Энджи.
Я знал, что Бубба должен быть где-то рядом. Возможно, он сейчас нас видел. Может быть, он видел также Маллена, Гутиерреса и их подручных.
Возможно, он видел и Аманду Маккриди. Бубба пришел сюда со стороны Милтона через Каннингемский парк по тропинке, которую облюбовал еще много лет назад, когда приезжал сюда топить огнестрельное оружие, машины или трупы — в общем, все то, что ребята вроде Буббы топят в наших карьерах.
На винтовке у него должен был быть оптический прицел с усилителем освещенности, в котором мы, наверное, выглядели, как на проявляющейся фотографии в мутноватой воде среди морских водорослей.
Криком в мертвой тишине вдруг прозвучал сигнал уоки-токи. Бруссард полез под плащ, повозился с устройством и поднес его ко рту.
— Бруссард слушает.
— Говорит Дойл. В шестнадцатый участок только что звонила женщина, просила вам передать кое-что. Кажется, та же, что говорила с Лайонелом Маккриди.
— Вас понял. Что просила передать?
— Идите направо, детектив Бруссард, поднимитесь на утесы к югу от карьера. Кензи и Дженнаро пусть идут налево.
— Это все?
— Да. Конец связи с Дойлом.
Бруссард снова прикрепил уоки-токи к поясу, оглядел утесы по другую сторону карьера.
— Разделяй и властвуй.
Он посмотрел на нас, глаза казались маленькими и пустыми. От страха и нервного напряжения лицо выглядело лет на десять моложе обычного.
— Будьте осторожны, — сказала Энджи.
— И вы тоже, — ответил он.
Мы постояли еще несколько секунд, как будто могли предотвратить неизбежное, то мгновение, когда станет ясно, жива Аманда или нет, когда все наши надежды и планы потеряют смысл, и кто бы ни пострадал, ни пропал, ни погиб — все это от нас уже больше не будет зависеть.
— Ну, — сказал Бруссард, — черт! — Он пожал плечами и пошел по ровной поверхности скалы, светя себе под ноги фонариком, луч которого плясал в поднятой им пыли.
Мы с Энджи отошли метра на три от обрыва и двинулись вдоль стены, находившейся от нас слева, и вскоре поравнялись с проходом в ней, напротив которого скала образовывала ступеньку высотой около пятнадцати сантиметров. Я схватил Энджи за руку, мы свернули в проход, поднялись на одну ступень вверх и прошли дальше по коридору еще метров девять, где уперлись в другую стену.
Эта была выше человеческого роста метра на три, кремово-бежевого цвета с шоколадными прожилками. Мне она показалась похожей на мраморный пирог. Мраморный пирог весом шесть тонн, но тем не менее.
Мы посветили слева от него — он тянулся метров на девять от нас, потом начинались деревья. Я снова посветил на ту часть, в которую мы уперлись. В ней тянулись горизонтальные борозды, по-видимому, слои твердой породы разделял ныне выветрившийся сланец. На высоте сантиметров семьдесят находился выступ, похожий на растянутую в улыбке губу, шириной сантиметров тридцать. Выше него примерно на метр находился другой, еще более растянутый.
— Много лазила по скалам последнее время? — спросил я Энджи.
— Ты же не думаешь?.. — Она рассматривала стену, водя по ней лучом.
— Не вижу других вариантов. — Я отдал ей свой фонарик, приподнял носок одной кроссовки, отыскивая глазами место, куда бы поставить ногу, и посмотрел через плечо на Энджи. — Я бы на твоем месте отошел подальше. Могу свалиться прямо на тебя.
Она покачала головой и стала чуть левее, направляя оба фонарика на стену. Я поставил ногу на нижний выступ и раза два налег на него, проверяя, выдержит ли. Убедившись, что опора надежна, я глубоко вздохнул и, опираясь ногой на выступ, ухватился рукой за следующий. Пальцы попали в смесь глиняной пыли, песка и каменной соли, я не удержался и упал на задницу.
— Хорошая попытка, — сказала Энджи. — У тебя определенно наследственная предрасположенность ко всему, что связано с атлетикой.
Я поднялся, отряхнул пыль с пальцев, размазал ее по джинсам, хмуро посмотрел на Энджи, попробовал еще раз и снова упал на задницу.
— Публика, однако, начинает нервничать, — заметила Энджи.
В третий раз мне удалось зацепиться пальцами за выступ и провисеть на нем добрых секунд пятнадцать.
Я посмотрел на неприступную стену. Энджи посветила двумя фонариками мне в лицо.
— Можно мне? — сказала она.
Я взял фонарики и посветил на стену.
— Сделай одолжение.
Она сделала несколько шагов назад, смерила стену взглядом, сделала несколько приседаний, размяла поясницу и пальцы. Я еще не успел понять, в чем состоит план действий, как Энджи выпрямилась, разбежалась, на полной скорости уперлась ногой в нижний уступ, зацепилась правой рукой за верхний, легкое тело подтянулось еще на полметра, и она забросила левую руку на верхний край стены. Оторвись она от земли на несколько сантиметров раньше, врезалась бы в гранит, как Коварный Койот[32] в дверь с картинкой.
Так, прижавшись к граниту, она повисела с полминуты, как будто ее туда забросили.
— И что теперь будешь делать? — спросил я.
— Думала повисеть тут некоторое время.
— В твоем голосе мне слышится сарказм.
— Неужели заметил?
— Замечать сарказм — один из моих талантов.
— Патрик, — произнесла она тоном, который мне сразу напомнил маму и нескольких монахинь, с которыми мне довелось сталкиваться. — Подойди и подтолкни.
Я сунул один фонарик за пряжку ремня так, чтобы он светил мне в лицо, другой в задний карман джинсов, стал под Энджи, подставил обе руки ей под пятки и попробовал поднять. Фонарики, наверное, весили больше, чем она. Я поднял руки вверх, распрямил их, и в этот момент Энджи взмыла на стену, и ее пятки оторвались от моих ладоней. Она обернулась, стоя на четвереньках, посмотрела на меня сверху вниз и протянула руку:
— Готов, олимпиец ты мой?
Я кашлянул в ладонь.
— Ну и стерва.
Она убрала руку и улыбнулась.
— Что это было?
— Сперва, говорю, надо убрать фонарик в задний карман.
— А. — Она снова протянула вниз руку. — Это конечно.
Взобравшись, мы рассмотрели скалу, одна из сторон которой представляла собой покоренную нами стену. Она была гладкой, как шар для боулинга, и по крайней мере на расстоянии метров двадцати от нас совершенно цельной. Я лег на живот, заглянул за ее край и посветил фонариком: гладкая поверхность скалы отвесно уходила в воду, до которой было метров двадцать.
Мы находились примерно на полпути к северной оконечности карьера. Прямо напротив нас на противоположной его стороне был ряд уступов и утесов, исписанных граффити, и даже случайно оставленный вбитый скалолазами крюк. Вода в луче фонарика у основания скалы мерцала, как поверхность шоссе в летний зной. Это был тот самый памятный мне бледно-зеленый цвет, только с чуть более выраженным молочным оттенком, хотя я знал, что цвет воды легко меняется. Водолазам, искавшим здесь тела прошлым летом, пришлось прекратить поиски из-за плотной взвеси и недостатка света на глубинах более сорока пяти метров, что ограничивало видимость до полуметра. Я повел лучом по воде к нашей скале, и он высветил помятую пластинку с автомобильным номером, плававшую на зеленой воде, кусок древесного ствола, частично изгрызенный животными так, что он напоминал пирогу. Потом в луч на мгновение попало что-то округлое цвета человеческого тела.
— Патрик, — сказала Энджи.
— Погоди секунду. Посвети-ка сюда. — Я перевел луч правее, туда, где только что видел что-то округлое цвета человеческой плоти, но теперь там была лишь зеленоватая вода.
— Энджи, — сказал я, — скорей, ради бога!
Она легла на скалу рядом со мной и посветила туда же, куда и я. На расстоянии почти двадцати метров луч, конечно, был недостаточно ярок. Круги света от наших фонарей двигались параллельными курсами, как пара глаз, методично освещая одну полосу воды за другой.
— Что там?
— Не рассмотрел. Может, камень?
Под лучом моего фонарика оказался кофейного цвета кусок бревна, потом снова пластинка с номером, смятая как будто в порыве гнева могучими руками человека.
Может, это и правда был камень. Белый свет, зеленая вода, окружающая чернота — мало ли что могло показаться. Если бы это было человеческое тело, мы бы его уже нашли. Кроме того, тела не плавают. По крайней мере, в карьерах.
— Вот тут что-то.
Я направил свет фонарика туда, куда светила Энджи, и два луча осветили свернутую на сторону голову и мертвые глаза куклы Аманды, Горошины. Она плыла на спине по зеленой воде в промокшем грязном платье из материи в цветочек.
«О господи, подумал я. Только не это».
— Патрик, — сказала Энджи. — Она может быть там.
— Погоди…
— Она может быть там, — повторила Энджи, и я услышал, как она, перекатившись на спину, пытается, скребя каблуком о скалу, снять ботинок с левой ноги.
— Энджи, погоди. Мы же должны…
На противоположной стороне карьера среди деревьев позади скал прогремел выстрел. Вслед ему среди ветвей замелькали вспышки белого и желтого.
— Пошевелиться не дают, — прокричал Бруссард в уоки-токи, — немедленно пришлите подкрепление! Повторяю: немедленно пришлите подкрепление!
Осколок мрамора отскочил от скалы мне в щеку, потом вдруг деревья у нас за спиной загудели, посыпались ветви, пули, высекая искры, отлетали от скал совсем рядом с нами.
Я откатился от края и схватил уоки-токи.
— Говорит Кензи. Нас обстреливают. Повторяю: нас обстреливают с южной стороны карьера.
Я откатился еще дальше в темноту, потом увидел фонарик, оставленный у края и по-прежнему светивший в сторону противоположного берега. Кто бы ни вел огонь оттуда, целились, видимо, рядом с источником света.
— Ты ранена?
Энджи покачала головой:
— Нет.
— Я сейчас.
— Куда?
Новая очередь ударила в скалы и деревья позади нас, я затаил дыхание и стал ждать прекращения огня. Наконец наступила зловещая тишина, я пополз в темноту и тыльной стороной кисти толкнул фонарик, он скатился со скалы и упал в воду.
— Господи, — сказала Энджи, когда я дополз к ней. — Что нам теперь делать?
— Не знаю. Если у них есть приборы ночного видения, нам крышка.
Снова началась стрельба. В темноту посыпались листья с деревьев позади нас, пули крошили стволы, обрубали ветки потоньше. На мгновение все затихло, видимо, стрелок выбирал себе другую цель, и следующая очередь пришлась в откос чуть ниже нас, пули как град застучали по скале. Подними стрелок кончик ствола на дюйм-другой выше — попал бы прямо в нас.
— Нужна эвакуационная группа! — прокричал Бруссард в уоки-токи. — Срочно! Обстреливают с двух сторон!
— Эвакуационная группа выдвигается, — ответил спокойный голос.
Я дождался затишья и нажал кнопку уоки-токи.
— Бруссард!
— Да. Оба целы?
— Да, только к земле прижимают.
— Меня тоже. — На его стороне шла беспрерывная стрельба, глядя через карьер, я видел среди деревьев дрожание белых вспышек автоматного огня.
— Вот сволочи! — крикнул Бруссард.
Затем небо над карьером разверзлось, и в нем пронеслись два вертолета с горящими прожекторами, которыми можно было бы осветить футбольное поле. Сначала белое зарево меня ослепило. Все утратило цвет и стало белым — белый ряд деревьев, белый утес, белая вода.
Неистовство белого нарушил длинный темный предмет, он вылетел по дуге из зарослей по ту сторону карьера, перевернулся в воздухе, ударился об утес и упал в воду. Я следил за его падением и успел понять, что это винтовка. Но на противоположной стороне карьера среди деревьев после этого стрельба только усилилась.
Затем вдруг все стихло. Я открыл глаза и в ярком белом свете успел увидеть еще одну винтовку, полетевшую в воду.
Один вертолет завис над деревьями на стороне Бруссарда, ведя пулеметный огонь, потом Бруссард закричал в уоки-токи:
— Прекратить огонь! Хорош палить, придурок!
В верхушках деревьев, освещенных ярким белым светом, в воздух летели срубленные пулями ветви и листья, затем и с вертолета стрелять перестали. Другой вертолет в это время завис над нами и осветил прожектором скалу под собой. Поток воздуха от винта сбил меня с ног, Энджи схватила уоки-токи и сказала:
— Возвращайтесь. Мы в порядке. Вы на линии огня.
Прожектор ненадолго выключили, и, когда я снова обрел способность видеть и ветер от винта стих, вертолет висел над карьером, сместившись метров на десять от нас и направив луч на воду.
Стрельба прекратилась, теперь ей на смену пришел рокот турбин и стрекотание винтов.
Я посмотрел в море белого света и увидел волнующуюся зеленоватую воду. Обломок бревна, пластинка с номером и кукла Аманды теперь оказались рядом. Я обернулся к Энджи как раз вовремя, чтобы увидеть, как она одной ногой пытается снять ботинок с другой и одновременно стягивает через голову водолазку. На ней остался черный бюстгальтер и синие джинсы, она поежилась от вечерней прохлады.
— Ты туда не полезешь, — сказал я.
— Ты прав. — Она кивнула, нагнулась к водолазке и, не успел я оглянуться, уже летела вниз, дергая ногами и выпятив грудь. Вертолет накренился на правый борт, тело Энджи изогнулось в свете прожектора и выпрямилось.
Она падала как ракета.
В белом свете Энджи казалась темной и напоминала худощавую статую с крепко прижатыми к бокам руками.
Энджи вошла в воду как нож, почти без брызг.
— У нас человек в воде, — донесся чей-то голос из уоки-токи. — Человек в воде.
Как будто предвидя, что я тоже прыгну, вертолет сместился в мою сторону, потом немного направо и завис, слегка покачиваясь, создавая потоком воздуха от винта непреодолимую преграду между мною и краем скалы.
Для прыжка со скал у карьера нужен сильный разбег и далекий прыжок. Отталкиваться надо как можно сильнее, чтобы капризы ветра и тяготения не помешали долететь до воды и упасть именно в нее, а не куда-нибудь рядом. Вертолет висел прямо передо мной, и, если бы даже мне удалось проскочить между его полозковыми шасси, поток воздуха от винта бросил бы меня на утес, где я бы и остался размазанным в виде пятна.
Я лежал на животе и ждал появления на поверхности Энджи. Судя по тому, как она вошла в воду, даже если, едва погрузившись с головой, сразу стала работать ногами, ушла, видимо, очень глубоко. А в наших карьерах под самой поверхностью воды может быть что угодно: и бревна, и старый холодильник на подводном выступе берега.
Энджи показалась на поверхности метрах в пятнадцати от куклы, посмотрела по сторонам и снова нырнула.
На южной стороне карьера среди зазубренных скал показался Бруссард. Он замахал руками, и вертолет, висевший над тем берегом, двинулся к нему. Бруссард поднял руки, и темноту прорезал вой турбин, похожий на визг зубоврачебного бора: машина стала снижаться рядом с Бруссардом, но из-за порыва ветра отшатнулась, как раз в тот момент, когда он потянулся рукой к стойке шасси.
Этот же порыв отбросил вертолет, зависший передо мной, и он едва не задел винтом скалу. Пилот отвел машину от нее подальше и чуть направо, развернул носом к середине карьера и стал возвращаться в прежнее положение. Я скинул кроссовки и куртку.
Энджи снова показалась на поверхности воды, поплыла к кукле, посмотрела на вертолеты и опять нырнула.
На противоположной стороне карьера другой вертолет снова стал приближаться к Бруссарду, который стал на отвесный выступ скалы, чуть не потерял равновесие, но ухватился обеими руками за стойку шасси. Машина отшатнулась от скалы, развернулась носом к середине карьера. Бруссард, дергая ногами, несколько раз пытался забраться на борт, потом его втащили.
Вертолет, зависший рядом со мной, двинулся прямо на меня. Я не сразу понял, что он собирается садиться. Подхватив кроссовки и куртку и едва держась на ногах, я отошел от края скалы и стал несколько левее, в это время передняя часть полозьев коснулась земли, машина дернулась назад и хвостовая часть развернулась налево.
Вертолет вроде бы стал на полозья, хвостовая часть несколько приподнялась, и поток воздуха от винтов сбил меня с ног. Вой турбин давил на барабанные перепонки, как металлический гвоздь.
Пока я пытался подняться на ноги, вертолет слегка подпрыгнул раз и другой на твердой поверхности скалы. Я видел перекошенное лицо пилота, пытавшегося посадить машину, нос которой опустился почти до земли, а хвост задрался. В какой-то момент мне показалось, что винт вот-вот заденет скалы, отделявшие верхнюю часть утеса от деревьев.
Полицейский в синем комбинезоне и черном шлеме спрыгнул на скалу и, пригнув голову, на полусогнутых ногах побежал ко мне.
— Кензи? — прокричал он.
Я кивнул.
— Давай. — Он схватил меня за руку и пригнул мне голову. В это время другой вертолет пролетел над водой в сторону склона, на котором мы расстались с Пулом. Я знал, что приземлиться там негде: заросли слишком густые, а для посадки ему нужна довольно большая площадка. Единственная надежда вытащить Пула состояла в том, чтобы спустить за борт человека с корзиной, перетащить в нее Пула, потом поднять и втащить на борт.
Под вой двигателей полицейский запихнул меня на борт, машина сразу снялась со скалы и стала снижаться над водой.
Внизу я видел Энджи. Она снова нырнула, на этот раз с куклой в руке. Вертолет пролетел над поверхностью воды, и в ней образовался водоворот.
— Поднимитесь выше! — закричал я.
Второй пилот обернулся и посмотрел на меня.
Я показал большим пальцем вверх.
— Вы ее утопите! Поднимитесь выше!
Второй пилот подтолкнул локтем первого, тот взял штурвал на себя, желудок у меня опустился туда, где должны быть кишки, а вертолет двинулся вправо. Исписанный граффити утес в окне кокпита стал стремительно надвигаться, а потом отдаляться. Мы поднялись чуть повыше, развернулись и зависли на высоте метров десять над тем местом, где последний раз видели Энджи.
Она показалась на поверхности, выплевывая изо рта воду, молотя руками по водовороту, который стремился поглотить ее, и легла на спину.
— Что она делает? — спросил сидевший рядом со мной полицейский.
— Плывет к берегу, — сказал я.
Энджи на спине поплыла к скалам. Зажатая в левой руке кукла при каждом взмахе описывала в воздухе дугу.
Полицейский, державший в руках винтовку, нацеленную на заросли деревьев, кивнул.
В школе, где Энджи училась в старших классах, команды по плаванию не было, поэтому она выступала от Девичьих клубов Америки и в шестнадцать лет на региональных соревнованиях завоевала серебряную медаль. Даже сейчас было видно, что плывет мастер: она рассекала воду, как угорь, почти не беспокоя ее и не оставляя за собой волн.
— Придется ей пешком вернуться, — прокричал второй пилот, — там сесть не сможем!
Энджи почувствовала приближение берега за несколько секунд до того, как могла бы в него врезаться. Она перевернулась на живот, доплыла до скал, надежно пристроила куклу в расщелину и лишь тогда выбралась из воды.
Первый пилот подлетел к ней ближе и сказал в громкоговоритель, укрепленный на носу над прожекторами:
— Мисс Дженнаро, мы не можем вас подобрать. Утесы слишком близко, нет места, сесть не сможем.
Энджи кивнула и устало махнула рукой. В ярком свете прожекторов ее тело казалось совсем белым, пряди длинных черных волос прилипли к щекам.
— Прямо за этими скалами, — прокричал пилот в громкоговоритель, — есть тропа! Идите по ней, поворачивайте всякий раз налево. Дойдете до проезда Риккиути. Там вас встретят!
Энджи показала ему выставленный большой палец, опустилась на скалу, глубоко вдохнула и положила на колени куклу.
Вертолет сделал вираж над окружающими карьер скалами, и Энджи постепенно уменьшилась до размеров бледной точки на черной стене. Земля внизу стремительно отдалилась, мы пролетели над старой железной дорогой, затем повернули на запад к горнолыжным склонам Блю-Хиллс.
— Какого черта она там искала? — Полицейский, сидевший со мной рядом, опустил винтовку.
— Девочку, — сказал я.
— Черт, — сказал полицейский, — придется возвращаться с водолазами.
— Ночью? — спросил я.
Он посмотрел на меня сквозь прозрачное забрало шлема.
— Может быть, — сказал он не очень уверенно. — А уж с утра точно.
— Мне кажется, она надеялась найти Аманду, не дожидаясь утра, — сказал я.
Полицейский пожал плечами:
— Господи, если Аманда Маккриди в этом карьере, одному богу известно, найдем мы ее труп или нет.
Мы приземлились на Кроличьем склоне заповедника Блю-Хиллс, осторожно снизившись между линиями подъемника. Второй вертолет проделал то же и сел метрах в двадцати от нас.
Нас встретило несколько полицейских машин, и среди них несколько подразделений полиции штата и две комиссии Метрополитен Дистрикт.
Бруссард выпрыгнул из второго вертолета, подбежал к ближайшей полицейской машине и вытащил полицейского в форме с водительского сиденья.
Я оказался рядом, пока он заводил двигатель.
— Где Пул?
— Не знаю, — сказал Бруссард. — Ни на том месте, где он остался, ни на тропе его не было. Либо сам спустился вниз, либо услышал стрельбу и поднялся наверх.
По траве к нам бежал майор Демпси.
— Бруссард, что у вас там, черт возьми, произошло?
— Долгая история, майор.
Я сел в машину рядом с Бруссардом.
— Где ребенок?
— Не было там никакого ребенка, — ответил Бруссард, — это ловушка.
Демпси облокотился на дверцу машины, нагнувшись к открытому окну.
— Я слышал, в карьере кукла Аманды плавала.
Бруссард в исступлении посмотрел на меня.
— Плавала, — сказал я. — Но тела Аманды не было.
Бруссард снял машину с ручного тормоза.
— Надо найти Пула, сэр.
— Сержант Рафтопулос звонил минуты две назад. Он на Притчетт-стрит. Говорит, там несколько двухсотых.
— Кто?
— Не знаю.
Демпси выпрямился.
— Отправляю подразделение егерей на проезд Риккиути за вашей напарницей, мистер Кензи.
— Спасибо.
— Кто это там стрельбу такую устроил?
— Не знаю, сэр. Мне просто головы поднять не давали.
Заработавшие турбины вертолетов заставили Демпси перейти на крик.
— Им оттуда не выбраться, — прокричал он. — Они заперты. У них выхода нет!
— Да, сэр.
— Так, значит, никаких признаков девочки? — Демпси, видимо, казалось, что, если задать вопрос несколько раз, в конце концов можно получить желаемый ответ.
Бруссард покачал головой:
— Послушайте, сэр, при всем уважении, у сержанта Рафтопулоса по дороге было что-то вроде инфаркта. Хочу поскорее до него добраться.
— Давайте. — Демпси отступил от окна и, махнув рукой, дал знак нескольким машинам позади нас двигаться колонной. Бруссард дал газу и повел машину вниз по склону, возле перелеска, вывернув руль, съехал на проселочную дорогу, еще через несколько секунд повернул налево и погнал по ухабистой дороге к въезду на скоростную автомагистраль, которая должна была привести к круговому перекрестку и далее на Притчетт-стрит.
Проехав еще двумя пыльными дорогами, мы оказались на Карьерной улице и пронеслись к югу от холмов. Было видно, как в зеркале заднего вида у нас колышутся и мигают синие и красные огни.
У знака «стоп» в конце Карьерной улицы Бруссард даже не сбавил скорость. Потом затормозил, развернув машину через обочину почти на сто восемьдесят градусов, и, нажав педаль газа до отказа, выехал на круговой перекресток. Все четыре шины мгновение сопротивлялись, тяжелая машина затряслась, задрожала, что-то заскрежетало, казалось, мы вот-вот перевернемся набок, но вот колеса опустились на асфальт, мощный двигатель взвыл, и мы вылетели с кольцевого перекрестка. Бруссард снова резко повернул, распахав обочину так, что на капот посыпалась трава и земля, справа мелькнула заброшенная мельница, и мы увидели Пула. Он сидел у заднего колеса «Лексуса RX-300», привалившись головой к крылу, слева от проезжей части метрах в пятидесяти за мельницей. Рубашка на груди была расстегнута до пояса, он прижимал руку к сердцу.
Бруссард резко затормозил, выскочил из машины, подбежал к Пулу и опустился рядом с ним на колени.
— Напарник! Напарник!
Пул открыл глаза и слабо улыбнулся.
— Потерялся я.
Бруссард пощупал у него пульс, приложил руку к сердцу и большим пальцем приподнял левое веко.
— Ничего, старина, ничего. Все будет… оклемаешься.
Сзади остановилось несколько полицейских машин. К нам подошел молодой полицейский из Квинси.
— Открой заднюю дверь, — сказал ему Бруссард.
Парень уронил фонарик в грязь и хотел поднять.
— Открой дверь, мать твою! — прикрикнул Бруссард. — Живо!
Парень успел отбросить ногой фонарик под машину, потом открыл дверцу.
— Кензи, помогите поднять.
Я схватил Пула за ноги, Бруссард приподнял и со спины обхватил за грудь, мы донесли тяжелое тело до полицейской машины и уложили на заднее сиденье.
— Я в порядке, — сказал Пул, и глаза у него закатились влево.
— Конечно, в порядке, — улыбнулся Бруссард и обернулся к молодому полицейскому, который заметно нервничал: — Быстро водить умеешь?
— Да, сэр.
Позади нас несколько сотрудников полиции Квинси и штата собрались перед капотом «лексуса» с пистолетами в руках.
— Выйти из машины! — скомандовал сотрудник полиции штата, указывая стволом на лобовое стекло машины Гутиерреса.
— Какая больница ближе? В Квинси или в Милтоне? — спросил Бруссард молодого полицейского.
— Отсюда, сэр, милтонская.
— За сколько туда доедешь?
— За три минуты.
— Надо за две. — Бруссард хлопнул его по плечу и подтолкнул к двери водительского сиденья.
Парень мигом сел за руль. Бруссард сдавил руку Пула и сказал:
— Скоро увидимся.
Пул сонно кивнул.
Мы отошли от машины, Бруссард захлопнул дверцу.
— За две минуты, — повторил он. Из-под колес патрульной машины полетел гравий, поднялось облако пыли, она вылетела на дорогу и с включенной мигалкой, как ракета, понеслась по асфальту.
— Срань господня! — ахнул стоявший перед «лексусом» полицейский. — Мать честная!
Мы пошли к машине Фараона Гутиерреса.
— Проверьте-ка это здание, — сказал Бруссард, ухватив под локоток двух сотрудников полиции штата и кивнув в сторону заброшенной мельницы. Они без лишних вопросов схватились за пристегнутые к поясам пистолеты и побежали назад по шоссе.
Мы протиснулись через толпу полицейских, собравшихся у переднего бампера «лексуса», и сквозь ветровое стекло увидели на водительском месте Фараона Гутиерреса и рядом на переднем сиденье Криса Маллена. Фары были включены, двигатель работал. В ветровом стекле перед Гутиерресом в центре паутины трещинок было небольшое отверстие, и такое же напротив Маллена.
Входные отверстия пуль в их головах тоже были похожи, оба размером с десятицентовую монету, оба белые по краям и с радиально расходящимися по коже морщинками, из каждого тонкая струйка крови вытекала на нос.
Судя по всему, Гутиеррес получил пулю первым. На его лице не сохранилось никакого выражения, кроме нетерпения. В руках не было ничего, обе они лежали на сиденье ладонями вверх. Ключ находился в замке зажигания, ручной тормоз в положении «парковка». Правая рука Криса Маллена лежала на рукоятке пистолета, засунутого за ремень, на лице застыло выражение удивления и страха. У него оставалось полсекунды, может быть, даже меньше, чтобы понять, что сейчас он тоже умрет. Но этого оказалось достаточно, чтобы увидеть происходящее в режиме замедленной съемки. Тысячи мыслей в смятении пронеслись у него в мозгу, он понял, что Фараон убит, и услышал плевок следующей пули, пробившей лобовое стекло.
«Бубба», — подумал я.
Просевший вдовий мостик[33] заброшенной мельницы предоставлял отличную позицию для снайпера.
В лучах фар «лексуса» я видел двух сотрудников полиции штата. Медленно, крадучись, они приближались к мельнице, направив дула пистолетов в сторону вдовьего мостика. Один из них дал другому знак, оба стали возле бокового входа. Один распахнул дверь, другой вошел внутрь, держа дуло пистолета горизонтально на уровне груди.
«Бубба, — подумал я, — надеюсь, ты сделал это не ради развлечения. Скажи, что Аманда Маккриди у тебя».
Бруссард проследил за направлением моего взгляда.
— На что спорим: баллистическая экспертиза покажет, что стреляли из этого здания?
— Не буду спорить, — сказал я.
Через два часа расхлебывание итогов операции все еще продолжалось. Вечер оказался неожиданно холодным, пошел мокрый снег, он оседал на ветровом стекле «лексуса», капли, как гниды вшей, застывали у нас в волосах.
Сотрудники полиции штата, проверявшие мельницу, вернулись с найденным там винчестером модели 94, который перезаряжался при помощи рычага — спусковой скобы, и с прикрепленным прибором ночного видения. Стрелок бросил оружие в бочонок с каким-то древним маслом на втором этаже справа от окна, выходящего на вдовий мостик. Серийный номер был удален, и первый же взглянувший на винтовку судебный эксперт в ответ на чье-то предложение проверить ее на наличие отпечатков пальцев только горько усмехнулся.
На мельницу отправили еще нескольких сотрудников полиции штата, но за два часа они не нашли ни гильз, ни чего-либо еще. Ни на поручнях вдовьего мостика, ни на раме выходящего на него окна судебные эксперты отпечатков пальцев не обнаружили.
Егерь, встретивший Энджи на склоне холма у карьера Суинглс, дал ей ярко-оранжевый плащ и толстые носки на ноги, но она все равно дрожала от холода и все пыталась вытереть волосы полотенцем, хотя они уже несколько часов назад либо сами высохли, либо вода в них замерзла. Бабье лето, как выяснилось, ушло внезапно, как массачусетские индейцы.
Двое водолазов пробовали вести поиски в карьере Грэнит-Рейл, но, как они сообщили, видимость на глубине более девяти метров оказалась нулевой. С разыгравшейся непогодой ил, скопившийся в трещинах скал, образовал взвесь, отчего даже на мелководье вода стала мутной.
В десять часов, не найдя ничего, кроме мужских джинсов, зацепившихся за подводный уступ на глубине около шести метров, водолазы работу прекратили.
На южной оконечности карьера почти напротив той скалы, с которой мы с Энджи видели куклу, Бруссарда, как выяснилось, ждала записка, аккуратно придавленная небольшим камнем и освещенная фонариком в виде карандаша, который висел над ней на ветке:
Неудачник
Едва Бруссард потянулся к записке, из зарослей стали стрелять, и ему пришлось с пистолетом в одной руке и уоки-токи в другой отступить от деревьев на площадку на скале, а сумку с деньгами и фонарик бросить на опушке.
Второй шквал пуль оттеснил его к краю скалы, где его единственной защитой оказалась темнота. Он лежал, нацелив пистолет на деревья, но не стрелял, опасаясь выдать свое местоположение вспышками у дула.
Это место теперь отыскали, нашли записку, фонарик Бруссарда и другой в виде карандаша, а также открытую сумку, которая была пуста. За последний час среди деревьев и на уступах за этой скалой собрали более сотни стреляных гильз. Сотрудник полиции штата, передавший это сообщение, добавил:
— Наверное, еще много найдем. Похоже, они тут совсем спятили, устроили, понимаешь, Гренаду.[34]
На той стороне карьера, где были мы с Энджи, сотрудники полиции штата и егеря обнаружили следы по меньшей мере пятидесяти пуль, попавших в скалы или деревья за ними.
Общее мнение можно было бы передать словами сотрудника полиции Штата, которое мы услышали по радио:
— Майор Демпси, сэр, живыми их отсюда выпускать не собирались. Ни за что.
Все дороги к карьерам оставались блокированными, но, поскольку стрельба велась с южной оконечности Грэнит-Рейл, сотрудники полиции штата, егеря и местная полиция с собаками сосредоточили поиски подозреваемых именно там, и с дороги на северной стороне карьера мы иногда видели огни, озарявшие верхушки деревьев.
Пул, по мнению медиков, перенес инфаркт миокарда, последствия которого усугубились его спуском к Карьерной улице. Оказавшись там, уже терявший контакт с окружающим и, возможно, в бреду, он, по-видимому, увидел Гутиерреса и Маллена, ехавших к Притчетт-стрит. Он пошел за ними, через некоторое время обнаружил их убитыми и сообщил об этом по телефону, установленному в «лексусе».
По последним полученным сведениям, Пул находился в отделении интенсивной терапии милтонской больницы в критическом состоянии.
— Кто-нибудь уже придумал объяснение? — спросил Демпси. Мы стояли вокруг капота «краун-виктории», Бруссард курил взятую у Энджи сигарету, сама она, причмокивая, пила кофе из стаканчика с эмблемой комиссии Метрополитен Дистрикт, а я поглаживал ее по спине, пытаясь таким образом хоть немного согреть.
— Объяснение чему? — сказал я.
— Тому, что Гутиеррес и Маллен оказываются на дороге в то самое время, когда вы втроем попадаете под огонь. — Он пожевал красную пластиковую зубочистку, время от времени берясь за нее большим и указательным пальцами, но ни разу не вынул изо рта. — Разве только у них тоже был вертолет, но что-то мне в это не верится. А вам?
— По-моему, у них не было вертолета, — сказал я.
Он улыбнулся:
— Верно. А раз так, они не могли находиться и на холмах, и через минуту или около того тут в своем «лексусе». Это — ну, не знаю, — просто невероятно. Следите за моей мыслью?
— Кто еще был наверху? — спросила Энджи, стуча зубами от холода.
— Вот в том-то и весь вопрос, не так ли? Среди прочего. — Демпси посмотрел через плечо на холмы, темнеющие по другую сторону скоростной автомагистрали. — Не говоря уж о том, где девочка. Где деньги? Где тот или те, кто израсходовал у карьера столько пороху, что фильм со Шварценеггером снять можно? Где тот или те, кто так ловко разделался с Гутиерресом и Малленом? — Он поставил ногу на крыло «лексуса», потрогал зубочистку и поглядел на машины, проносящиеся по шоссе рядом с нами. Журналистам будет о чем писать.
Бруссард затянулся табачным дымом и шумно выдохнул.
— Развертываете операцию ПМЗ, Демпси, да?
— ПМЗ? — постукивая зубами, переспросила Энджи.
— Прикрой мою задницу, — сказал Бруссард. — Майору Демпси было бы нежелательно прославиться в качестве полицейского, который потерял Аманду Маккриди, двести тысяч долларов и две жизни за один вечер. Или не так?
Голова Демпси стала поворачиваться к Бруссарду, пока зубочистка не указала прямо на него.
— Я не хочу прославиться в качестве полицейского, нет, детектив Бруссард.
— Поэтому прославлюсь я, — кивнул Бруссард.
— Это вы потеряли деньги, — сказал Демпси. — Мы позволили вам сыграть так, как вам хотелось, и вот что из этого вышло. — Он поднял брови и заглянул в «лексус». Как раз в это время двое помощников коронера вытаскивали с водительского сиденья труп Гутиерреса. На земле был расстелен черный пластиковый мешок, тело положили на него. — Ваш лейтенант Дойл? Он с восьми тридцати по телефону пытается объяснить ситуацию комиссару полиции. Когда я его последний раз видел, он пытался выгородить вас и вашего напарника. И я сказал ему, что это — напрасная трата времени.
— А что, — спросила Энджи, — ему оставалось делать под таким огнем? Собраться с мыслями, схватить сумку и нырнуть с нею со скалы?
Демпси пожал плечами:
— Это один из возможных вариантов.
— Каких на хрен вариантов! — сказала Энджи, вдруг перестав стучать зубами. — Он жизнью рисковал ради…
— Мисс Дженнаро, — остановил Энджи Бруссард, положив руку ей на колено, — майор Демпси не говорит ничего такого, чего не сказал бы лейтенант Дойл.
— Послушайте детектива Бруссарда, мисс Дженнаро, — сказал Демпси.
— Кто-то должен выступить козлом отпущения за эту групповуху, — сказал Бруссард. — Назначили меня.
— Вы тут единственный представитель от всей конторы, — усмехнулся Демпси и направился к группе сотрудников полиции штата, говоря на ходу в уоки-токи и оглядывая холмы, окружающие карьер.
— Это несправедливо, — сказала Энджи.
— Нет, справедливо, — сказал Бруссард и отбросил щелчком докуренную до фильтра сигарету. — Я просрал все дело.
— Это мы просрали, — сказала Энджи.
Бруссард покачал головой.
— Если бы деньги по-прежнему были у нас, можно было бы жить дальше, независимо от того, где Аманда и жива ли она. Но без денег мы — просто шуты. И это моя вина. — Он плюнул на асфальт, покачал головой и ударил каблуком по шине «лексуса».
Энджи смотрела, как технический сотрудник судебной экспертизы кладет куклу Аманды в пластиковый пакет, запечатывает его и подписывает черным фломастером.
— Она где-то там, так? — Энджи взглянула на темнеющие холмы.
— Да, она там, — сказал Бруссард.
С наступлением рассвета мы еще находились на месте двойного убийства. «Лексус» прицепили к тягачу, который потащил его по Притчетт-стрит и свернул на кольцевой перекресток, направляясь к скоростной автомагистрали.
Сотрудники полиции штата уезжали в холмы, возвращались оттуда с пакетами, заполненными стреляными гильзами, выковыряли даже несколько расплющенных пуль, застрявших в скале и в стволах деревьев. Кто-то будто бы привез ботинки и водолазку Энджи, но кто это именно и что он с ними сделал, никто не знал. Во время этого ночного бдения какой-то полицейский из Квинси накинул Энджи на плечи одеяло, но она все равно дрожала, и в свете уличных фонарей, фар и осветительных приборов, установленных для освещения места преступления, было видно, что губы у нее синие.
Около часа ночи приехал из холмов лейтенант Дойл и пальцем поманил к себе Бруссарда. Они прошли по дороге к желтой ленте, натянутой вокруг мельницы, потом остановились друг против друга, набычились, и тут Дойл взорвался. Слова мы не слышали, но громкость и указательный палец, которым Дойл размахивал перед лицом Бруссарда, говорили о том, что настроение начальника вовсе не сводилось к безмятежному «Ну, попробовали, не получилось, не беда». Большую часть беседы Бруссард стоял опустив голову, но она затянулась на добрых двадцать минут, и Дойл, казалось, только сильней распалялся. Потом он иссяк, Бруссард оторвал взгляд от земли, и лейтенант покачал головой так, что мы, находясь на расстоянии метров пятьдесят, почувствовали, что он принял суровое окончательное решение. Дойл оставил Бруссарда и вошел в здание мельницы.
— Я так понимаю, невеселые новости, — сказала Энджи Бруссарду. Он подошел к нам и сразу полез за очередной сигаретой в ее пачку, лежавшую на капоте машины.
— Отстраняют до решения завтрашней комиссии Министерства внутренних дел. — Бруссард закурил и пожал плечами. — Последнее служебное поручение — сообщить Хелен Маккриди, что нам не удалось вернуть ее дочь.
— А к вашему лейтенанту, — сказал я, — который одобрил эту операцию, какие будут претензии?
— Никаких. — Бруссард прислонился к бамперу, затянулся и выдохнул тонкую струю дыма.
— Никаких? — переспросила Энджи.
— Никаких. — Бруссард стряхнул пепел с сигареты. — Я все провалил, и вся ответственность — на мне. Если признаю, что утаил существенную информацию, хотел стяжать всю славу за задержание самолично, значок не потеряю. — Он снова пожал плечами. — Добро пожаловать в департамент политики.
— Но… — начала было Энджи.
— А, да, — сказал Бруссард и, обернувшись, взглянул на нее. — Лейтенант вполне ясно дал понять, что если вы будете распространяться на эту тему — постойте-ка, как это он выразился? — «урою их по самые веки по делу об убийстве Мариона Сосиа».
Я посмотрел на вход в здание мельницы, где в последний раз видел Дойла:
— Да нет у него на нас ни хрена!
Бруссард покачал головой:
— Он никогда не блефует. Раз говорит, что уроет, значит, уроет.
Я призадумался. Четыре года назад под мостом юго-восточной магистрали мы с Энджи хладнокровно убили сутенера и торговца кокаином Мариона Сосиа. Пистолеты у нас были незарегистрированные, и отпечатки пальцев мы с них стерли.
Но оставался свидетель, будущий налетчик по имени Юджин. Фамилии его я никогда не знал, но тогда был почти уверен, что, если бы я не убил Сосиа, Сосиа убил бы Юджина. Не сразу, но вскоре. Юджин, решил я, несколько раз за эти годы попадал за решетку — карьера в «Американ экспресс» парню явно не светила — и, видимо, во время очередной отсидки сдал нас в обмен на сокращение срока. Поскольку никаких иных оснований связывать меня и Энджи со смертью Сосиа не было, окружной прокурор, я так думаю, решил делу хода не давать, но кто-то эту информацию прибрал к рукам и передал Дойлу.
— То есть, говорите, он нас за яйца держит.
Бруссард посмотрел на меня, потом на Энджи и улыбнулся.
— Если говорить эвфемизмами, то да, конечно. Вы у него в кулаке.
— Утешительное соображение, — заметила Энджи.
— На этой неделе одни сплошные утешительные соображения. — Бруссард бросил сигарету. — Пойду поищу телефон, позвоню жене, обрадую.
И он не слишком решительным шагом, как будто земля, по которой он ступал, стала уже не та, что полчаса назад, понурив плечи и засунув руки в карманы, пошел к другим полицейским, окружившим «лексус» Гутиерреса.
Энджи дрожала от холода, и я дрожал вместе с ней.
С утра, едва небо над холмами цвета малинового синяка стало насыщенно-розовым, водолазы возобновили поиски в карьере. Полиция готовилась к утреннему часу пик: на Притчетт-стрит и Карьерной улице движение перекрыли, проезжую часть перегородили козлами и натянули поперек нее желтую пластиковую ленту. Контингент сотрудников полиции штата образовал живой заслон в самих холмах. В пять утра они расположились в узловых точках всех крупных дорог, досматривали транспорт на контрольно-пропускных пунктах, но съезды и въезды на скоростную автомагистраль перекрывать не стали. Довольно скоро вдоль шоссе расположились фургоны выездных бригад телевизионных новостей и журналистов-газетчиков, как будто только и ждали за поворотом, заняли всю обочину и своими прожекторами светили на нас и в сторону холмов. Несколько раз репортеры подходили к Энджи и спрашивали, почему она босиком. Несколько раз вместо ответа Энджи прятала лицо от камер, поднимала и показывала им кулак с выставленным средним пальцем.
Журналисты засуетились из-за распространившихся слухов, что в карьере Квинси кто-то выпустил из автоматического оружия несколько сотен пуль, а на Притчетт-стрит обнаружили два трупа — судя по всему, результат чьей-то профессиональной работы. Затем каким-то непонятным образом, будто с холмов ветром надуло, сюда приплели Аманду Маккриди, и цирковое представление началось.
Кто-то из журналистов узнал на автостраде Бруссарда, после чего его сразу узнали и все остальные, и вскоре мы почувствовали себя рабами на галерах.
— Детектив, где Аманда Маккриди? — кричали нам из собравшейся толпы.
— Она мертва?
— Она в карьере?
— Где ваш напарник?
— Правда ли, что похитителей Аманды вчера под вечер перестреляли?
— Правду ли говорят, что пропали деньги, предназначенные для выкупа?
— Найдено ли в карьере тело Аманды Маккриди? Это потому вы без обуви, мадам?
Тут сотрудник полиции штата, как будто специально дожидался этого вопроса, пересек Притчетт-стрит с бумажным пакетом в руках и вручил его Энджи:
— Ваши вещи, мадам. Прислали вместе с расплющенными пулями.
Энджи наклонила голову, скрывая лицо от камер, поблагодарила его, достала из пакета высокие ботинки «Доктор Мартенс» и обулась.
— С водолазкой будет сложнее, — сказал Бруссард, едва улыбнувшись.
— Да что вы? — Энджи сняла капюшон и повернулась спиной к журналистам. Одни из них хотел перепрыгнуть через ограждение, но сотрудник полиции штата выставил дубинку и слегка ею его оттолкнул.
Энджи сбросила с плеч одеяло и плащ, и несколько камер сразу повернулись в нашу сторону снимать черные бретельки бюстгальтера на фоне голой кожи.
Она посмотрела на меня:
— Может, исполнить медленный стриптиз, бедрами немного покрутить?
— Твой номер, — сказал я. — Кажется, ты уже завладела всеобщим вниманием.
— Моим — точно, — сказал Бруссард. Он, не скрываясь, рассматривал грудь Энджи, охваченную черным кружевом.
— О, какая радость! — Она состроила гримасу и натянула водолазку.
Кто-то на шоссе зааплодировал, кто-то засвистел. Освобождая из-под ворота густые пряди волос, Энджи стояла к зрителям спиной.
— Думаешь, это я себя показываю? — сказала она с досадой, обращаясь ко мне и слегка покачав головой. — Это они себя показывают, старина. Только они.
Вскоре после восхода солнца состояние Пула, которое прежде считалось критическим, стали оценивать как стабильное. Делать нам все равно было нечего, поэтому с Притчетт-стрит мы поехали вслед за «таурусом» Бруссарда в больницу Милтона.
Там пришлось поспорить с медсестрой, ведавшей посещениями, по поводу того, скольким из нас можно пройти к Пулу в отделение интенсивной терапии, раз мы не приходимся ему кровными родственниками. В это время мимо проходил какой-то доктор, он взглянул на Энджи и сказал:
— Вы знаете, что у вас покровы синие?
Немного еще поспорив, Энджи прошла с ним за занавеску проверить, нет ли у нее гипотермии, а медсестра неохотно пустила нас с Бруссардом к Пулу.
— Инфаркт миокарда, — сказал он, подкладывал себе под спину подушки, желая немного приподняться. — Жутковатое словечко, а?
— Это два слова, — сказал Бруссард, неловко потянулся и слегка сдавил Пулу руку.
— Не важно. Сердечный приступ, вот что это было. — Пул снова пошевелился, но, видимо почувствовав острую боль, с шипением втянул в себя воздух.
— Расслабься, — сказал Бруссард. — Ради бога, расслабься.
— Что там такое было? — спросил Пул.
— Двое среди деревьев у карьера и один внизу? — сказал он, когда мы рассказали ему то немногое, что знали сами.
— Похоже на то, — сказал Бруссард. — Или один стрелок с двумя винтовками среди деревьев и один на вдовьем мостике.
Пул поморщился, показывая, что верит в такую возможность так же, как в то, что Джона Кеннеди убил стрелок-одиночка. Потом повернул на подушке голову и посмотрел на меня.
— Вы точно видели, как с утеса бросили две винтовки?
— Почти точно, — сказал я. — Там бог знает что творилось. — Я пожал плечами, потом кивнул: — Нет, точно. Две винтовки.
— А стрелок на мельнице свой винчестер оставил?
— Да.
— Но никаких гильз?
— Именно так.
— А стрелок или стрелки у карьера избавились от винтовок, но оставили повсюду гильзы?
— Верно, сэр, — сказал Бруссард.
— Господи, — сказал Пул, — я этого не понимаю.
В палату вошла Энджи, держа у локтевого сгиба марлевый шарик, сгибая и разгибая руку. Она стала у кровати Пула и улыбнулась, глядя на него сверху вниз.
— Что говорит врач? — спросил Бруссард.
— Небольшое переохлаждение. — Энджи пожала плечами. — Сделал мне укол куриного бульона или чего-то такого, сказал, что пальцы на руках и ногах не отрежут.
Энджи несколько порозовела, далеко не до обычного своего состояния, но тем не менее.
— Мы с вами как парочка призраков, — сказала она, сев на кровать рядом с Пулом.
Он улыбнулся потрескавшимися губами.
— Говорят, моя дорогая, вы сиганули со скалы, как знаменитые ныряльщики на Галапагосских островах.
— Это в Акапулько так ныряют, — сказал Бруссард. — На Галапагосах со скал никто не прыгает.
— Ну, тогда на Фиджи, — сказал Пул, — и хватит меня поправлять. Итак, детки, что же, черт возьми, происходит?
Энджи слегка потрепала его по щеке:
— Это вы нам расскажите. Что было с вами?
Он поджал губы.
— Да я хорошенько и не помню. Почему-то оказалось, что спускаюсь с холма. Беда в том, что я уоки-токи и фонарик забыл. — Он поднял брови. — Вы, наверное, думаете: «Хорош, нечего сказать». Услышал стрельбу, попробовал вернуться на место, где мы расстались, но куда бы ни шел, все выходило, что иду не на выстрелы, а от них. Заросли, — сказал он и покачал головой. — Потом как-то оказался на углу Карьерной улицы и у съезда с автомагистрали. Мимо пролетел «лексус». Я пошел за ним. К тому времени, как оказался рядом с ним, наши друзья получили по свинцовой заглушке в головы, а я чувствую, меня как-то вроде шатает.
— Помнишь, как позвонил и сообщил о трупах? — спросил Бруссард.
— Я позвонил?
Бруссард кивнул.
— С телефона в машине.
— Ничего себе! — сказал Пул. — А я не дурак, а?
Энджи улыбнулась, взяла носовой платок с тележки у кровати Пула и промокнула ему лоб.
— Господи! — сказал Пул, с трудом ворочая языком.
— Что?
Глаза его закатились, но через мгновение он снова осмысленно посмотрел на нас.
— А? Да ничего, просто лекарства мне такие колют. Трудно сосредоточиться.
Из-за занавески возле Бруссарда показалась медсестра, ведавшая посещениями.
— Вам пора. Пожалуйста.
— Так что там наверху было? — с трудом проговорил Пул.
— Пора, — сказала сестра.
Пул снова закатил глаза влево, облизнул сухие губы и похлопал веками.
— Мистеру Рафтопулосу сейчас больше нельзя.
— Нет, — сказал Пул, — подождите.
Бруссард похлопал его по руке:
— Мы еще зайдем, дружище. Ты не волнуйся.
— Что там было? — снова спросил Пул заметно слабеющим голосом. Мы поднялись и отошли от его кровати.
Хороший вопрос, думал я по пути из отделения интенсивной терапии.
Едва мы вошли в квартиру, Энджи залезла под горячий душ, а я позвонил Буббе.
— Что? — сказал он в качестве приветствия.
— Скажи, что она у тебя.
— Что? Патрик?
— Скажи, что Аманда Маккриди у тебя.
— Нет. Что? Почему она должна быть у меня?
— Ты убрал Гутиерреса и…
— Нет, не я.
— Бубба, — сказал я. — Это ты. Тебе пришлось их убрать.
— Гутиерреса и Маллена? Ни боже мой, чувак. Я два часа пролежал мордой в грязь в Каннигем-парке.
— Так ты у карьера даже не был?
— Меня вырубили. Кто-то поджидал, Патрик. Получил кувалдой или чем-то таким по затылку, и с копыт долой. Я даже из парка выйти не успел.
— Ладно, — сказал я, чувствуя, как по поверхности моего сознания расползается масляное пятно, — повтори еще раз. Медленно. Ты был в Каннигем-парке…
— Где-то в шесть тридцать, со снаряжением, собирался пройти в холмы через лес, пошел к нему, слышу какой-то хруст. Кручу головой, пытаюсь понять что, и тут — хлобысь! — получаю по затылку. Это, сам понимаешь, сначала меня немного огорчило, но я к тому же ни хрена не вижу. Стал нырять, уклоняться, и тут — шарах — снова. Опустился на одно колено, и тут — третий раз. Может быть, был и четвертый, но следующее, что помню, — очнулся весь в крови и время вроде восемь тридцать. Я пошел обратно, к доктору Хиханьки.
Доктор Хиханьки — токсикоман, вдыхающий пары эфира, к которому Бубба, как и половина нашей городской шпаны, ходил с ранами, которые не хотел показывать обычным врачам.
— Но сейчас-то ты в порядке? — спросил я.
— В голове сильно звенит, и перед глазами то все почернеет, то обратно просветляется, но до свадьбы заживет. Мне эта скотина нужна, Патрик. Меня еще никому вырубить не удавалось, ты же знаешь.
Это я знал. Из всего, что я услышал за этот час, эти новости пока были самыми удручающими. Кто-то оказался настолько быстр и умен, что вывел из игры Буббу. И справился со своей задачей блестяще.
Но если строить отношения с Буббой на таком уровне, зачем оставлять его в живых? Похитители Аманды убрали Маллена и Гутиерреса, пытались убить Бруссарда, Энджи и меня. Почему бы им с безопасного расстояния не застрелить Буббу, и дело с концом?
— Доктор Хиханьки сказал, ударили бы еще раз — порвали бы связки на задней стороне шеи. Господи, — сказал Бубба. — Ну, я до них доберусь!
— Как только узнаю, кто это, — сказал я, — сразу сообщу.
— Я собирал сведения по своим каналам, понимаешь? Услышал о Фараоне и Маллене от доктора Хиханьки и велел Нельсону кое-куда позвонить. Говорят, копы деньги потеряли.
— Это точно.
— А девочки нет.
— Девочки нет.
— Серьезных людей ты против себя настроил на этот раз.
— Знаю.
— Э, Патрик!
— Да.
— Сыр не послал бы своих ребят лупить меня трубой по башке. Не такой он дурак.
— Может, так вышло. Может, он не ожидал, что это будешь ты.
— Он же знает: мы с тобой — друганы. Должен догадываться: за прикрытием в таком деле ты ко мне обратишься.
Бубба был прав. Сыр слишком умен и, конечно, понимает, что Бубба тоже в игре. И кроме того, Сыр знает, что Бубба способен закатить гранату в группу его ребят просто на случай, что погибнет именно тот, кто дал ему трубой по башке. Поэтому если приказ отдал Сыр… опять-таки почему Буббу не добили? Отправив Буббу на тот свет, Сыр мог бы не потеть в ожидании его мести. Оставив Буббу в живых, Сыр не оставил себе выбора: чтобы его организация продолжала существовать ко времени окончания заварухи, он должен выдать по крайней мере одного из тех, кто участвовал в нападении на Буббу. Если только нет еще чего-то, что я упускаю из виду.
— Господи! — сказал я.
— Есть для тебя еще одна заморочка, — сказал Бубба.
Вряд ли мне было по силам справиться с еще одной задачей, мозги и так уже узлом завязались, но я сказал:
— Валяй.
— Ходят тут разные слухи о Фараоне Гутиерресе.
— Знаю. Объединился с Малленом, чтобы захватить дело Сыра.
— Нет, я не об этом. Об этом все и так знают. Я слышал, Фараон — не из наших.
— Кто же он тогда?
— Коп, Патрик, — сказал Бубба, и мне показалось, что все у меня в голове поехало налево. — Говорят, он из АКСЗН.[35]
— АКСЗН? — переспросила Энджи. — Ты шутишь!
Я пожал плечами:
— Так Буббе сказали, я лишь повторяю. Знаешь ведь эти уличные слухи: может быть, полная чепуха, а может — истинная правда. Пока непонятно.
— Что же тогда получается? Гутиеррес под прикрытием шесть лет работает на Сыра Оламона, потом оказывается вовлечен в похищение четырехлетнего ребенка и не сообщает об этом своему начальству?
— Как-то не вяжется, верно?
— Не вяжется. Что еще новенького?
Я прислонился к кухонному столу, испытывая сильное желание стукнуть кулаком по стене. Не было еще случаев, расследование которых так выводило бы из себя. В этом деле все казалось лишенным смысла. Пропадает четырехлетняя девочка. Расследование показывает, что ее похитил наркодилер, которого развела мать ребенка. Требование выкупа в размере похищенной суммы поступает от женщины, которая будто бы работает на наркодилеров. Тех, кто доставляет похитителям выкуп, подстерегают в засаде. Наркодилеры убиты. Один из них может быть, а может и не быть внедренным оперативником, работающим под прикрытием на федеральное правительство. Пропавшая девочка так и остается пропавшей или покоится на дне карьера.
Энджи, сидевшая по другую сторону стола, положила теплую ладонь мне на запястье.
— Надо попробовать поспать хотя бы несколько часов.
Я взял ее за руку.
— Слушай, есть в этом деле хоть что-то, что ты можешь понять?
— После того как пришили Гутиерреса и Маллена? Нет. У Сыра сейчас нет никого, кто мог бы заменить их. Черт! В его организации ни у кого не хватит мозгов провернуть такое.
— Погоди минутку…
— Что?
— Ты только что сама это сказала. Теперь в организации Оламона образовался вакуум власти. Что, если ради этого все и затеяно?
— А?
— Что, если Сыр знал, что Маллен и Гутиеррес задумали путч? Или, по крайней мере, он знал о Маллене, а о Гутиерресе слышал, что он вовсе не тот, кем хочет казаться.
— Поэтому Сыр все это устроил — похищение ребенка, требование выкупа и так далее — только для того, чтобы убрать Маллена и Гутиерреса? — Энджи отпустила мою руку. — Ты это серьезно?
— Это теория.
— Идиотская, — сказала она.
— Ну уж!
— Нет, ты подумай. Зачем пускаться в такие хлопоты, когда Сыр мог бы нанять парочку ребят, которые укокошили бы Маллена и Гутиерреса, пока те спят?
— Но Сыр еще хотел отомстить Хелен, вернуть свои двести кусков.
— Поэтому он велит Маллену похитить Аманду, устраивает эту замысловатую процедуру — деньги в обмен на ребенка, — и, пока все это разворачивается, кто-то по его приказу убивает Маллена?
— А почему бы нет?
— Потому что возникает вопрос: где же Аманда? Где деньги? Кто это вчера вечером палил из деревьев? Кто вырубил Буббу? Как мог Маллен не знать, что его подставляют? Ты представляешь, сколько народу в организации Сыра должно быть вовлечено в этот сложный заговор, чтобы воплотить его в жизнь? А ведь Маллен — не дурак. Он был самый умный в команде Сыра. Тебе не кажется, он по своим каналам должен был разнюхать, что его собираются убрать.
Я потер глаза:
— Господи! Как же голова болит!
— У меня тоже. И ты еще не помогаешь.
Я посмотрел на нее и нахмурился. Она улыбнулась:
— Ладно. Вернемся на первую клетку. Аманду похитили. Зачем?
— Ее мать слупила с Сыра двести штук.
— Почему Сыр не послал кого-нибудь, чтобы ей пригрозили? Я почти уверена, она бы испугалась. И они это тоже знали.
— Может, им понадобилось три месяца, чтобы понять, что деньги во время облавы на байкеров не полиция конфисковала.
— Хорошо. Но потом-то они бы действовали быстро. У Рея Ликански, когда мы его встретили, было по фонарю под каждым глазом.
— Думаешь, ему Маллен поставил?
— Маллен бы ему кое-что похуже сделал, если бы думал, что Ликански его развел. Смотри, я вот что утверждаю: если Маллен считал, что Ликански и Хелен развели организацию, он бы не стал похищать дочку Хелен. Он бы убил саму Хелен.
— Так, может, это вовсе не Сыр похитил Аманду?
— Может, и не Сыр.
— А эти двести штук — простое совпадение? — Я склонил голову набок и, глядя на Энджи, приподнял бровь.
— Ты утверждаешь, что это редкое совпадение.
— Утверждаю, что столь же редкое, как образование второго штата Вермонт. Особенно в том, что касается записки в нижнем белье Кимми, в которой говорится об обмене ребенка на двести штук.
Энджи кивнула, взяла чайную ложку и стала ею двигать туда-сюда по столу кофейную чашку.
— Хорошо. Итак, возвращаемся к Сыру. И к вопросам о том, зачем ему такие хлопоты.
— Что, согласен, на него нисколько не похоже. И вполне бессмысленно.
Она перевела взгляд с кофейной чашки на меня.
— Так где же она, Патрик?
Я запустил пальцы под обшлаг ее купального халата и прикоснулся к руке.
— Она в карьере, Энджи.
— Почему?
— Не знаю.
— Кто-то похищает девочку, требует за нее выкуп и потом ее убивает. Вот так просто?
— Да.
— Почему?
— Потому что она видела лица похитителей. Потому что, кто бы там ни был в карьере вчера вечером, они почуяли участие полиции, поняли, что мы пробуем сыграть на их разногласиях. Не знаю. Потому что детей вообще иногда убивают.
Она поднялась из-за стола.
— Давай-ка проведаем Сыра.
— А спать?
— После смерти отоспимся.
Мокрый снег, недолго шедший вчера под вечер, сегодня с утра пошел снова, и к тому времени, когда мы доехали до тюрьмы Конкорд, уже казалось, что по капоту стучат пятицентовые монеты. На этот раз со мной не было стражей порядка, поэтому Сыра привели в комнату для свиданий, и мы могли разговаривать с ним из полуотгороженной кабинки через толстое стекло. Я снял телефонную трубку, Сыр потянулся за своей.
— Привет, Энджи, — сказал он. — Хорошо выглядишь.
— Привет.
— Может, выйду отсюда когда-нибудь, сходили бы вместе, выпили солодового с шоколадом или еще чего-нибудь такого.
— Солодового с шоколадом?
— Ну да. — Он размял плечи. — Чего-нибудь такого.
Она прищурилась.
— Конечно, Сыр. Конечно. Позвони, когда выйдешь.
— Черт возьми! — Сыр хлопнул огромной ладонью по разделявшему нас стеклу. — Первой узнаешь.
— Сыр, — сказал я.
Он поднял брови.
— Крис Маллен мертв.
— Я слышал. Ужасно досадно.
— Ты, похоже, стойко переносишь эту потерю, — заметила Энджи.
Сыр откинулся на спинку стула и некоторое время смотрел на нас, лениво почесывая грудь.
— Бизнес такой, понимаете? Ублюдки рано уходят из жизни.
— Фараон Гутиеррес — тоже.
— Да, — кивнул Сыр. — Жаль Фараона. Умел одеться ублюдок. Понимаете, о чем я?
— Ходят слухи, Фараон работал не только на тебя, — сказал я.
Сыр приподнял бровь и, мне показалось, на мгновение растерялся.
— Как-как ты сказал, брат мой?
— Говорят, на федералов работал.
— Херня. — Сыр широко улыбнулся и покачал головой, но глаза оставались широко открытыми, а взгляд слегка рассеянным. — Будешь верить всему, что болтают на улице, станешь — уж не знаю — копом, который свою маму трахает, или чем-то таким.
Выразился он неудачно, и сам понимал это. До сих пор все, что касалось тех, от кого Сыр во всем зависел, вылетало у него изо рта гладко, быстро и выходило забавно, даже угрозы. Судя по бедности речи, ему до сих пор и в голову не приходило, что Фараон может быть копом.
Я улыбнулся.
— Полицейский, Сыр. В твоей организации. Подумай, как это скажется на твоей репутации.
Сыр, по-видимому, постепенно приходил в себя. Он посмотрел на нас с любопытством.
— Твой парень Бруссард заходил меня проведать около часа назад и по доброте душевной рассказал, что Маллена и Гутиерреса больше нет в живых. Думает, я сам своих ребят завалил? Говорит, заставит меня расплатиться. Это будто бы из-за меня его от работы отстранили и напарник его, старый дурень, расхворался. Очень разозлился он на Сыра, если хотите знать правду.
— Горько слышать это, Сыр. — Я придвинулся к стеклу. — Есть и еще кое-кто, кто не на шутку разозлился.
— Да? И кто же это?
— Брат Роговски.
Пальцы, которыми Сыр почесывал себе грудь, вдруг замерли, а передние ножки стула, висевшие в воздухе, стали на пол.
— Что же прогневило брата Роговски?
— Кто-то из ваших мызнул ему несколько раз трубой по затылку.
Сыр покачал головой:
— Не из моих, милок. Не из моих.
Я посмотрел на Энджи.
— К несчастью, — сказала она.
— Да, — вздохнул я. — Плохо дело.
— Что? — сказал Сыр. — Вы же знаете: да чтобы я поднял руку на брата Роговски…
— Помнишь того парня? — спросила Энджи.
— Которого? — сказал я.
— Ну, ты его знаешь, несколько лет назад… важная шишка в ирландской шайке. — Она щелкнула пальцами.
— Джек Рауз, — подсказал я.
— Точно. Он был вроде ирландского крестного отца, так? Или что-то в этом роде.
— Постойте, — сказал Сыр. — Никто же не знает, что стало с Джеком Раузом. Кроме того, что он разозлил Патрисос или кого-то там еще.
Он посмотрел на нас через стекло, и мы оба медленно покачали головами.
— Постойте, вы что же, хотите сказать, что Джека Рауза зарезал…
— Ш-ш-ш. — Я поднял к губам указательный палец.
Сыр положил телефонную трубку на стол и целую минуту разглядывал потолок. Потом он снова посмотрел на нас, но к этому времени стал, кажется, сантиметров на тридцать меньше ростом и вспотел так, что волосы прилипли ко лбу, отчего Сыр стал выглядеть лет на десять моложе. Он снова взял трубку.
— Слухи из кегельбана? — прошептал он в нее.
Года два-три назад Бубба, наемный убийца по имени Пайн, я и Фил Димасси повстречали Джека Рауза и его правую руку, полоумного Кевина Херлихи у заброшенного кегельбана в Кожевенном квартале. Зашло нас туда шестеро, вышло четверо. Джека Рауза и Кевина Херлихи связанных, с кляпами во рту истязали Бубба и несколько шаров для игры в боулинг. У жертв шансов спастись не было. Санкционировал это убийство Жирный Фредди Константайн, глава здешней итальянской мафии, и те из нас, кто вышел тогда из кегельбана, знали, что тела убитых никто не найдет и дураков искать их не найдется.
— Это правда? — прошептал Сыр.
Утвердительный ответ он прочел у меня в глазах.
— Бубба должен знать: я к этой истории с трубой не имею никакого отношения.
Я посмотрел на Энджи. Она вздохнула, взглянула на Сыра и потом на полочку под самым стеклом.
— Патрик, — сказал Сыр, и в его голосе не было и следа обычных интонаций, — ты должен передать это Буббе.
— Знаешь что? — сказала Энджи.
— Я к этому отношения не имею.
Энджи улыбнулась и покачала головой.
— Ну да, конечно, Сыр, конечно.
Он стукнул тыльной стороной ладони по стеклу:
— Послушайте меня! Я к этому отношения не имею.
— Бубба на это смотрит иначе, Сыр.
— Так скажите ему.
— Почему?
— Потому что это правда.
— Я на это не куплюсь, Сыр.
Он подвинул свой стул поближе к нам и сжал телефонную трубку так, что мне показалось, она вот-вот треснет и развалится надвое.
— Слушай меня, кусок дерьма. Этот психотик думает, я его трубой трахнул, так я с таким же успехом мог бы и какого-нибудь охранника тут пришить, чтобы засадили в одиночку пожизненно. Этот чувак — ходячий смертный приговор. Так что скажите ему…
— Да пошел ты, Сыр!
— Что?
Я повторил, на этот раз очень медленно.
— Я заходил к тебе два дня назад, — сказал я через некоторое время, — и умолял тебя сохранить жизнь четырехлетней девочке. Теперь она мертва. Из-за тебя. И теперь ты просишь о милосердии? Я передам Буббе, что ты сожалеешь о своем распоряжении дать ему трубой.
— Нет.
— Скажу, что ты так и сказал: «Я сожалею». Что как-нибудь загладишь свою вину.
— Нет. — Сыр покачал головой. — Ты этого не сделаешь.
— Смотри, что я делаю, Сыр. — Я отстранил трубку от уха и сделал вид, что сейчас повешу ее на рычаг.
— Она жива.
— Что? — сказала Энджи.
Я снова поднес трубку к уху.
— Она жива, — повторил Сыр.
— Кто? — спросил я.
Сыр закатил глаза и кивнул в сторону охранника, стоявшего у дверей.
— Сам знаешь кто.
— Где она? — спросила Энджи.
Сыр покачал головой:
— Дайте мне несколько дней.
— Нет, — сказал я.
— У вас выбора нет. — Он посмотрел через плечо, придвинулся поближе к стеклу и прошептал в трубку. — С вами свяжутся. Поверьте мне. Мне надо сначала кое-что выяснить.
— Бубба очень рассердился, — сказала Энджи. — И у него есть друзья. — Она обвела взглядом тюремные стены.
— Это правда, — сказал Сыр. — Его дружки, гребаные братья Тумей как раз сели за ограбление банка в Эверетте. Будут крутиться тут следующую неделю, пока суд да дело. Так что нечего меня пугать. Я и так напуган. Поняли? Но мне нужно время. Так что попридержите своего пса. Я вам весточку пришлю, обещаю.
— Откуда у тебя уверенность, что она жива?
— Знаю. Понятно? — Он горько улыбнулся. — Вы понятия не имеете, что на самом деле творится. Вы это знаете?
— Теперь знаем, — сказал я.
— Передайте Буббе, я перед ним чист. Я вам живой нужен. Так? Без меня девчонке конец. Полный конец, безвозвратный. Поняли? Прощай, детка, прощай, — пропел он.
Я откинулся на спинку стула и некоторое время молча смотрел на него. Казалось, он говорит правду, но Сыр большой мастак прикидываться. Он сделал карьеру на точном знании того, что больше всего может повредить одним людям, и выявлении других, кто мог быть в этом вреде заинтересован. Кому нужно было этих людей устранить. Он умел помахать пакетиком с героином перед наркоманками, вынудить их отсасывать у кого попало и потом дать только половину того, что обещал. Он умел задурить голову копам и окружным прокурорам полуправдами и заставить их подписаться в положенных местах, отмеченных пунктирной линией, прежде чем отдавал им факсимиле своих изначальных обязательств.
— Мне этого недостаточно, — сказал я.
У дверей постучал охранник и сказал:
— Осужденный Оламон, осталось шестьдесят секунд.
— Недостаточно? Какого еще хрена тебе надо?
— Мне нужна девочка, — сказал я. — И сейчас же.
— Я не могу сказать…
— Ну и пошел ты. — Я хлопнул по стеклу. — Где она, Сыр? Где?
— Если я тебе скажу, узнают, что это пошло от меня, и к утру я буду покойником. — Говоря это, он пятился от нас, выставив перед собой ладони, и на его жирном лице была неподдельная гримаса ужаса.
— В таком случае дай что-нибудь, какую-нибудь надежную зацепку.
— В порядке независимого сотрудничества, — сказала Энджи.
— Независимого чего?
— Тридцать секунд, — сказал охранник.
— Ну, Сыр, что-нибудь!
Он взглянул через плечо, на стены, отделявшие его от воли, и на толстое стекло между нами.
— Да ладно вам, — просительно сказал он.
— Двадцать секунд, — сказала Энджи.
— Слушайте, перестаньте…
— Пятнадцать.
— Нет, я…
— Тик-так, — сказал я. — Тик-так.
— Дружок этой сучки, — сказал Сыр. — Знаете?
— Слинял из города, — сказала Энджи.
— Так найдите его, — прошипел Сыр. — Это все, что я знаю. И спросите, какую роль он играл в тот вечер, когда исчез ребенок.
— Сыр, — начала было Энджи.
За спиной Сыра появился охранник и положил руку ему на плечо.
— Какие бы предположения вы ни строили, — сказал Сыр, — они с действительностью и близко не лежали. Вам, ребята, до истины — как отсюда до гребаной Гренландии. Поняли?
Охранник наклонился над ним и забрал телефонную трубку.
Сыр встал со стула и позволил тащить себя в сторону двери. Охранник открыл ее, Сыр обернулся к нам и, беззвучно шевеля губами, повторил одно слово:
— Гренландии, — и несколько раз поднял и опустил брови. Потом охранник вытолкал его за дверь, и больше мы Сыра не видели.
На следующий день вскоре после полудня на уступе у южной стены карьера Грэнит-Рейл на глубине около пяти метров водолазы обнаружили клочок ткани, зацепившийся за выступ гранита, похожий на пестик для колки льда.
В три часа дня в гостиной у Беатрис и Лайонела Хелен опознала в этом клочке кусок, оторванный от спинной части ворота футболки, которая была на ее дочери в вечер исчезновения. На материи сохранились написанные фломастером инициалы «А. Мк.».
Затем Хелен проследила за тем, как Бруссард убирает розовый клочок в пакет для вещественных доказательств, и стакан с пепси-колой у нее в руке хрустнул.
— Господи, — сказал Лайонел. — Хелен.
— Она мертва, да? — Хелен сжала кулак, вдавив осколки стакана глубоко в ладонь. Кровь крупными каплями стала падать на пол из досок лиственных пород.
— Мисс Маккриди, — сказал Бруссард, — мы этого не знаем. Пожалуйста, позвольте взглянуть на вашу руку.
— Она мертва, — повторила Хелен, на этот раз громче. — Да? — Она вырвала руку у Бруссарда, и кровь закапала на кофейный столик.
— Хелен, ради бога! — Лайонел положил руку на плечо сестре и потянулся к пораненной руке.
Хелен отшатнулась от него, но потеряла равновесие, упала на пол, потом села и, держа одной рукой другую, пораненную, посмотрела на нас снизу вверх. Мы встретились глазами, и я вспомнил, как в доме Малыша Дэвида обозвал ее дурой.
Она не была дурой, она просто ничего не ощущала, как после укола обезболивающего, и потому не сознавала опасности, в которой оказался ее ребенок, и даже осколки стекла, впившиеся ей в ладонь, в ее сухожилия и артерии, не причиняли ей боли.
Впрочем, через несколько минут боль все-таки появилась. Хелен выдерживала мой взгляд, и в это время ее глаза потускнели, раскрылись шире, и до нее дошла суть происшедшего. Это было ужасное просветление, переполняющее осознание показалось в ее зрачках, а с ним и понимание того, чего стоило ее небрежение дочери, какой ужасной боли она подвергла ребенка, какой кошмарный опыт пришлось переварить его детскому сознанию.
Хелен открыла рот и почти беззвучно завыла.
Она сидела на полу, кровь из ран на ладони капала на джинсы. Тело сотрясалось от раскаяния, горя и ужаса, голова запрокинулась на спину, и потому казалось, что она смотрит в потолок. Слезы катились из глаз, она сидела подобрав под себя ноги, покачивалась и беззвучно выла.
В шесть часов в тот же вечер, еще до того, как мы успели переговорить с Буббой, он вместе с Нельсоном Феррари вошел в бар, принадлежавший Сыру, в Лоуэр-Миллс. Двум наркоманам и бармену велели устроить себе обеденный перерыв, и через десять минут все, что было в баре, вынесло взрывом на находившуюся перед ним автостоянку. Два сиденья, связанные со столиком между ними, вылетели через вход и угодили в «хонду-аккорд» члена здешнего городского управления, которая была незаконно припаркована на месте, предназначенном для стоянки машины человека с ограниченными физическими возможностями. Пожарные, прибывшие на место взрыва, вынуждены были работать в кислородных масках. Взрыв оказался таким мощным, что выбросил из бара на улицу почти все, в нем самом почти нечему было гореть, зато в подвале пожарные столкнулись с полыхающим нерасфасованным героином. Первых двоих, вошедших в подвал, вскоре стало рвать. Тогда пожарные отступили, дали героину догореть, после чего, находясь в относительной безопасности, закончили свою работу.
Я бы попытался передать Сыру, что не успел переговорить с Буббой, что он, взрывая бар, действовал, пребывая в неведении, но в половине седьмого в тюрьме Конкорд Сыр поскользнулся на только что вымытом полу. Ужасно неудачно поскользнулся. Он как-то так ухитрился потерять равновесие, что перелетел через поручень ограждения третьего яруса и упал на каменный пол, причем приземлился на свою огромного размера желтоволосую голову, которая несла немало всякой чепухи, и умер.
Зима
Прошло пять месяцев, Аманду так и не нашли. Ее выцветшая фотография смотрела с заборов, окружавших стройки, с телефонных столбов или нет-нет да и мелькала в телевизионных новостях. И чем больше мы видели это фото, чем более расплывчатым оно становилось, тем более надуманной казалась Аманда, а ее образ — лишь очередной картинкой на досках объявлений или телевизионных экранах. Прохожие смотрели на нее равнодушно или с тоской и не могли вспомнить, кто она такая или почему ее изображение прилеплено к фонарному столбу у автобусной остановки.
А те, кто помнил, пожимали плечами, отгоняя воспоминания о ней, и переводили взгляд на спортивные страницы газет или на приближающийся автобус.
«Страшен наш мир, — думали люди. — Каждый день происходят всякие ужасы. Что-то долго не идет мой автобус».
Поиски в карьере, продолжавшиеся месяц, с наступлением холодов закончились безрезультатно. Над холмами подули ноябрьские ветра. С наступлением весны, обещали водолазы, операция продолжится. И снова начались разговоры об осушении и заполнении карьеров Квинси грунтом. Городские чиновники, которых беспокоила многомиллионная стоимость этих работ, находили неожиданных сторонников в защитниках окружающей среды, которые предупреждали, что заполнение карьеров грунтом погубит природу, уничтожит замечательные пейзажи, исторические памятники, лишит скалолазов самых лучших скал для занятий этим видом спорта в нашем штате.
Пул смог вернуться к работе в феврале, за полгода до тридцатой годовщины нахождения на службе. Его снова направили на борьбу с наркотиками и без лишнего шума понизили в звании до детектива первого класса. Пулу еще повезло. Бруссарда разжаловали из детектива первого класса до патрульного, назначили девять месяцев испытательного срока и направили заниматься автопарком. Мы выпили с ним в день понижения, это произошло спустя чуть больше недели после того вечера в карьере. Он невесело улыбался, глядя на пластиковую палочку, которой помешивал кубики льда в джине с тоником.
— Так, значит, Сыр сказал, что она жива, а кто-то еще — что Гутиеррес работает на федералов. — Я кивнул. — И то, что она жива, по словам Сыра, может подтвердить Ликански. — Бруссард перестал улыбаться, лицо его стало жалким. — Портрет Ликански разослан всем постам у нас и в Пенсильвании. Могу, если хотите, напомнить, чтобы разослали еще раз. — Он слегка пожал плечами. — Это ведь делу не повредит.
— Думаете, Сыр врал? — спросила Энджи.
— Насчет того, что Аманда Маккриди жива? — Бруссард вытащил палочку из коктейля, облизал ее и положил на край салфетки. — Да, мисс Дженнаро, по-моему, врал.
— Почему?
— Потому что он преступник, они всегда врут. Он знал: вы так хотите, чтобы она была жива, что поверите.
— Вы в тот день приходили к нему. Он вам ничего такого не говорил?
Бруссард покачал головой и вынул из кармана пачку «Мальборо». Теперь он курил как паровоз.
— Притворялся, что ничего не знает о смерти Маллена и Гутиерреса. Будто это для него неожиданность. А я сказал, что превращу его жизнь в ад, даже если это будет мое последнее занятие. Он посмеялся. А на следующий день умер. — Бруссард поднес горящую спичку к сигарете и прищурил тот глаз, который был к ней ближе. — Вот как перед Богом — лучше бы я сам его убил. Черт, надо было какого-нибудь уголовника на него напустить. Правда! Так ему и надо. Кто-то, кому эта девочка небезразлична, прикончил его, и Сыр знал, за что его убили. Всю дорогу в ад, наверное, об этом думал.
— Так кто же его все-таки убил? — спросила Энджи.
— Поговаривают, этот парнишка, псих из Арлингтона, его только что осудили за двойное убийство.
— Это который в прошлом году двух сестер убил?
Бруссард кивнул.
— Питер Попович. Он там уже месяц, пока суд идет, видимо, они с Сыром перекинулись несколькими словами во дворе. Либо он, либо Сыр действительно поскользнулся на мокром полу. — Бруссард пожал плечами. — Как бы то ни было, вышло так, как я хотел.
— Сыр говорит, что знает, где Аманда Маккриди, и на следующий день его убивают. Вам это не кажется подозрительным?
Бруссард отпил из стакана.
— Нет. Слушайте, я вам честно скажу: я не знаю, что случилось с девочкой, и это меня мучает. Просто донимает. Но не думаю, что она жива. Сыр Оламон не знал, как сказать правду, даже если бы она могла ему помочь.
— А как насчет того, что Гутиеррес работал на федералов?
Бруссард покачал головой:
— Исключено. Нам бы об этом уже сказали.
— Что же случилось с Амандой Маккриди?
Бруссард некоторое время смотрел перед собой, стряхивая пепел с сигареты о край пепельницы. Потом он посмотрел на нас, в покрасневших глазах поблескивали слезы.
— Не знаю. Ей-богу, хотелось бы сделать все по-другому. Лучше бы действительно передали это дело федералам. Лучше бы… — У него перехватило горло, он опустил и прикрыл правый глаз ладонью. — Лучше бы… — Фраза осталась незаконченной.
Всю зиму мы с Энджи занимались другими делами, но ни одно из них не было связано с исчезновением ребенка. Не то чтобы обезумевшие от горя родители стремились нанимать в первую очередь нас. Мы так и не нашли Аманду Маккриди, и едкий запах неудачи, казалось, следовал за нами, когда мы по вечерам выходили куда-нибудь рядом с домом, или по магазинам, или субботним днем в супермаркет.
Рей Ликански тоже пропал, и его исчезновение в этом деле беспокоило меня более чем что-либо другое. Насколько я знал, полиция потеряла к нему интерес, поэтому причин скрываться у него как будто бы не стало. На протяжении нескольких месяцев мы с Энджи время от времени дежурили у дома его отца. Все без толку. Остывший кофе и затекшие от долгого сидения в машине конечности — вот весь результат. В январе Энджи поставила телефон Ленни Ликански на прослушку, и мы две недели слушали пленки с записями его звонков по чуть ли не тысяче номеров: в «Домашней торговой сети» он заказывал чиа петс,[36] но ни разу ни сам не позвонил сыну, ни сын ему.
В один прекрасный день нам показалось, что мы настрадались достаточно, и мы поехали в Аллегейни, Пенсильвания, и провели в дороге весь вечер. Нашли в телефонном справочнике рассадник Ликански и все выходные за ними наблюдали. Были там Ярдак, Лесли и Стэнли, трое кузенов Рея. Все они работали на бумажной фабрике, загрязнявшей воздух своими трубами и которая пахла, как тонер в ксерокопировальной машине. Все трое пили каждый вечер в одном и том же баре, флиртовали с одними и теми же женщинами и в одиночестве возвращались в родной дом, в котором жили вместе.
На четвертый вечер мы с Энджи пошли за Стэнли в переулок, где он купил кокаин у женщины, приехавшей на мотоцикле. Когда она уехала, он высыпал порошок неровной полоской на ладонь и собрался нюхнуть. Я подошел к нему сзади и, пощекотав мочку уха пистолетом 45-го калибра, осведомился, где мне найти Рея.
Стэнли на месте напрудил в штаны, и от замерзшей земли между его ботинок пошел пар.
— Не знаю. Не видел его с позапрошлого лета.
Я взвел боек и ткнул пистолетом ему в висок.
— Ты лжешь, Стэнли, поэтому я тебя сейчас пристрелю.
— Не надо! Я не знаю! Богом клянусь! Рея я не видел почти два года. Пожалуйста, ради бога, поверьте!
Энджи кивнула. Стэнли говорил правду.
— От кокаина стоять не будет, — сказала она ему.
Раз в неделю мы навещали Беатрис и Лайонела и пережевывали с ними сначала все, что знали, потом то, чего не знали, причем последнее всегда казалось более весомым и значимым.
Как-то февральским вечером мы уже прощались, они стояли у подъезда, поеживаясь от холода и, по обыкновению, желая убедиться, что мы дойдем до машины без происшествий.
— Я все думаю о надгробиях, — вдруг сказала Беатрис.
— Что? — оторопел Лайонел.
— Когда у меня бессонница, я все думаю, какое сделать ей надгробие. И вообще, надо ли?
— Дорогая, не надо…
Она отмахнулась и плотнее запахнула кардиган.
— Знаю, знаю. Можно подумать, что я сдаюсь, что признаю ее мертвой, хотя хочу верить, что она жива. Знаю. Но… понимаете… ведь ничто не говорит в пользу того, что она вообще когда-нибудь была жива. — Беатрис указала на подъезд. — Ничто не указывает, что она здесь бывала. Наша память слишком слаба, понимаете? Она меркнет. — Беатрис кивнула сама себе. — Меркнет, — повторила она, повернулась и пошла в дом.
Хелен я видел всего один раз в конце марта. Мы с Буббой метали дротики в таверне Келли, Хелен меня не заметила или сделала вид, что не замечает. Она сидела одна у стойки в углу бара, и единственного стакана ей хватило на целый час. Она смотрела в него, будто на дне могла увидеть Аманду.
Мы с Буббой приехали поздно. Минут за десять до закрытия клиенты повалили валом, в баре стало яблоку негде упасть, пришлось оставить дротики и перейти к бильярду. Потом народ стал расходиться, мы доиграли, допили пиво и по дороге к выходу поставили пустые кружки на стойку.
— Спасибо вам.
Хелен сидела в окружении стульев, которые бармен уже поставил ножками вверх на стойку из красного дерева. Я почему-то думал, что она уже ушла. Или, может быть, надеялся на это.
— Спасибо вам, — повторила она очень тихо, — за ваши усилия.
Я стоял на полу, покрытом резиновой плиткой, и понимал, что не знаю, куда девать кисти рук. Или целиком руки. Или вообще конечности, если уж на то пошло. Тело стало каким-то неловким и неуклюжим.
Хелен все смотрела себе в стакан, давно не мытые волосы падали ей на лицо, казавшееся крошечным рядом с перевернутыми стульями в тусклом свете, которым был освещен бар в это время перед самым закрытием.
Я не знал, что сказать. Даже не уверен, что вообще мог сказать хоть что-нибудь. Хотелось подойти к ней, обнять, извиниться за то, что не смог спасти ее дочь, найти ее Аманду. Извиниться за то, что не оправдал доверия, надежд, за все. Хотелось заплакать. Но я повернулся и пошел к двери.
— Мистер Кензи.
Я остановился, не оборачиваясь.
— Если бы можно было, — сказала она, — я бы все теперь делала иначе. Я бы… я бы никогда глаз с нее не спустила.
Уж не знаю, кивнул я или нет и вообще показал ли как-нибудь, что ее слышу. Знаю, что не обернулся. И был рад, что выбрался наконец на улицу.
На следующее утро я проснулся раньше Энджи, заварил кофе, попытался выкинуть из головы Хелен Маккриди и особенно это ее «Спасибо вам», сходил вниз, взял газету, сунул под мышку, вернулся на кухню, налил кофе, прошел с чашкой в столовую и едва начал читать, как выяснилось, что исчез еще один ребенок.
Звали его Сэмюэл Пьетро, ему было восемь.
Последний раз его видели в субботу днем на игровой площадке Уэймаут. Сегодня был понедельник. Его мать не сообщала об исчезновении до вчерашнего дня. Со школьной фотографии мне улыбался мальчишка с большими карими глазами на смышленой мордахе.
Я подумал, не стоит ли спрятать газету, чтобы заметка не попала на глаза Энджи. Со времени поездки в Аллегейни, после этого эпизода в переулке, когда весь пар из нас вышел и завод кончился, Энджи стала просто одержима Амандой Маккриди. Но это была не та одержимость, которая находит себе выход в действии, поскольку сделать мы почти ничего не могли. Энджи подолгу просиживала над записями, сделанными во время расследования, на листах картона рисовала ось времени и над ней прикрепляла фотографии главных действующих лиц этого дела, часами разговаривала с Бруссардом и Пулом, все об одном и том же, хоть и другими словами, постоянно возвращаясь к Аманде.
Никаких новых гипотез или озарений в результате не возникло, но Энджи была словно загипнотизированная. И всякий раз, когда в новостях сообщали, что пропал ребенок, она не пропускала ни единого слова, ни единой подробности.
И рыдала, когда их находили мертвыми. Всегда тихонько, всегда за закрытыми дверями, всегда рассчитывая, что я на другом конце квартиры и не услышу.
Совсем недавно я осознал, насколько сильно сказалась на Энджи смерть ее отца. Даже не сама смерть, я так думаю, а то, что никогда нельзя будет наверняка узнать, как он умер. Что нет тела, на которое можно было бы взглянуть в последний раз, опустить в землю, поставить памятник. Может быть, она никогда до конца и не верила в то, что он на самом деле умер.
Однажды она при мне спросила о своем отце Пула. Тот признался, что едва знал его. Они встречались иногда на улице, однажды вместе участвовали в облаве в игровом притоне, Джимми Суав — всегда и во всем истинный джентльмен, человек, понимавший полицейскую службу так, как понимал ее Пул.
— Все гложет, а? — спросил тогда Пул.
— Иногда, — сказала Энджи. — Головой понимаешь, что человека нет, а сердце… никак не успокоится.
Так же было и с Амандой Маккриди, и со всеми детьми, объявленными в федеральный розыск, но за долгие зимние месяцы не найденными ни живыми, ни мертвыми. Может быть, пришло однажды мне в голову, я стал частным детективом, потому что не хотел знать, что будет дальше. Может быть, Энджи стала им, потому что хотела.
Пряча газету, я понимал, что поступаю глупо. Всегда найдутся другие газеты, телевидение и радио, люди обсуждают подобные новости в барах и супермаркетах, заливая топливо в автомобиль на автозаправках самообслуживания.
Может, лет сорок назад и можно было жить, не зная, что происходит вокруг, но никак не сейчас. Новостные службы колотят нас новостями, как дубиной по головам, возможно, нас, зрителей и слушателей, даже просвещают. Скрыться от новостей невозможно. Они повсюду и везде.
Я провел пальцем по фотографии Сэма Пьетро и впервые за пятнадцать лет прочел молитву.
Жестокий месяц
Наступил апрель. Энджи проводила вечера со своими картонными планшетами и записями по делу Аманды Маккриди перед небольшим алтарем, который она соорудила в маленькой второй спальне моей квартиры, где я прежде хранил чемоданы и коробки, которые собирался отвезти в «Гудвилл»,[37] а также где собирали на себе пыль мелкие приборы, ожидая, пока я отвезу их в мастерскую.
Энджи перенесла туда маленький телевизор и видеопроигрыватель и раз за разом пересматривала октябрьские выпуски новостей. Две недели после исчезновения Сэмюэла Пьетро в этой комнате, где с фотографий, развешанных над телевизором, своим флегматичным взглядом смотрела Аманда, Энджи проводила по крайней мере по пять часов в день.
К одержимости я отношусь, в общем, так же, как и большинство из нас, особого ущерба она, насколько я понимаю, Энджи не наносила, по крайней мере пока. Я почти уверился в мысли, что Аманда погибла, но не собирался навязывать свою уверенность кому бы то ни было.
Энджи твердо верила словам Сыра, что Аманда жива, и считала, что указание на место, где ее прячут, можно обнаружить где-нибудь в наших заметках, в каких-то мелочах, обнаруженных нами или полицией. Ей удалось уговорить Бруссарда и Пула одолжить ей свои заметки, а также ежедневные отчеты и протоколы опросов, проводившихся их колегами, работавшими по делу об исчезновении Аманды. И Энджи, как она мне однажды сказала, была убеждена, что рано или поздно все эти бумаги и видеозаписи выдадут содержащуюся в них истину.
Истина, как я однажды сказал ей, заключается в том, что кто-то в организации Сыра надул Маллена и Гутиерреса после того, как они скинули Аманду с утеса. И этот кто-то вывел их из холмов и потом ушел с двумя сотнями тысяч долларов.
— Сыр думал совсем иначе, — сказала она.
— Сыр был профессиональный лжец.
Энджи пожала плечами.
По вечерам она переносилась мыслями в осень ко всем нашим неудачам того времени, а я либо читал, либо смотрел по кабельному старые фильмы, либо играл в бильярд с Буббой. В один условно прекрасный день он сказал:
— Надо бы отвезти тебя в Джермантаун.
К этому моменту я выпил всего полкружки, так что почти не сомневался, что расслышал все правильно.
— Хочешь заключить какую-то сделку в моем присутствии?
Я уставился через бильярдный стол на Буббу. Какой-то болван выбрал в музыкальном автомате песню группы «Смит». Я их терпеть не могу. Уж лучше пусть меня привяжут к стулу и заставят слушать попурри Сюзанн Вега и Натали Мерчант и смотреть, как корчится у них за спиной подтанцовка, чем слушать вой Морриссей в сопровождении «Смитов». Может, я и циник, но, если человек нуждается в любви, мне кажется, стоит перестать выть об этом и для начала попросту трахнуться. Может, это станет первым удачным шагом к новой жизни.
Бубба обернулся к бару и прокричал:
— Какая п… завела эту хрень?
— Бубба, — предостерег его я.
Он поднял палец:
— Ша. — И снова обернулся к бару: — Кто поставил эту песню, а?
— Бубба, — попросил бармен, — не заводись.
— Мне просто интересно знать, кто поставил эту песню.
Джайджай Вэрон, тридцатилетняя пьянчужка, выглядевшая как усохшая мумия сорокапятилетней женщины, вскинула тощую руку:
— Это я, я не знала, мистер Роговски. Прошу прощения. Я сейчас выключу.
— О, Джайджай. — Бубба приветливо помахал. — Привет! Нет, не беспокойся.
— Выключу, правда.
— Нет, нет, милочка. — Бубба покачал головой. — Поули, две порции Джайджай от меня.
— Спасибо, мистер Роговски.
— Да пустяки. Морриссей, однако, такой отстой, Джайджай. Правда. Вот хоть Патрика спроси.
— Да, Морриссей — отстой, — сказал один из группы пожилых мужчин, и несколько завсегдатаев бара высказались в том же смысле.
— Следующий раз поставлю «Амайзинг роял краунс», — сказала Джайджай.
Несколько месяцев назад я познакомил Буббу с творчеством этой группы, и теперь она стала его любимой.
Бубба широко раскинул руки:
— Поули, три порции Джайджай от меня!
Все это происходило в «Живом бутлегере», небольшом баре между Саути и Дорчестером, не имевшем никакой вывески. Кирпичное здание снаружи было выкрашено черной краской, и единственным указанием на то, что в доме находится бар, было название, намалеванное красной краской в правом нижнем углу стены, выходившей на Дорчестер-авеню. Считалось, что заведением вместе со своим мужем Шейксом владеет Карла Дулей, она же Красотка Карлотта, но на самом деле оно принадлежало Буббе, и я ни разу не видел, чтобы здесь когда-нибудь пустовал хоть один стул и пойло бы не текло рекой. Народ собирался хороший. За три года с тех пор, как Бубба открыл заведение, здесь ни разу не было ни драки, ни очереди в сортир, оттого что какой-нибудь наркоман заперся в кабинке и долго не мог ширнуться. Разумеется, всяк сюда входящий знал, кто истинный владелец заведения и как он посмотрит на того, кто даст повод для появления в баре полиции. Поэтому, несмотря на сумрачный интерьер и сомнительную репутацию, в «Живом бутлегере» было так же безопасно, как во время игры в бинго в среду вечером на собрании паствы при соборе Святого Барта. И музыка здесь тоже большей частью была хорошая.
— Не понимаю, зачем устраивать Джайджай сердечную недостаточность, — сказал я. — Музыкальный автомат — твой. Это ты загрузил в него диски со «Смитами».
— Этих чертовых «Смитов» я не загружал, — сказал Бубба. — Они входят в сборник хитов восьмидесятых. Приходится мириться с одной песней «Смитов» ради «Давай, Эйлин» и еще целой кучи всяких других хороших вещей.
— «Катрина и Волны»?[38] — спросил я. — «Бананарама»?[39] Настоящие крутые, вроде этих?
— Слушай, — сказал он, — там есть «Нена»,[40] так что заткнись.
— «Девяносто девять воздушных шаров»? Ладно. — Я прицелился и положил в лузу седьмой шар. — Так что там насчет сделки?
— Мне нужна поддержка. Нельсона сейчас нет в городе, братья Тумей играют вдвоем против шестерых.
— За сто баксов найдешь миллион желающих тебя поддержать. — Я ударил по шестому, но он лишь задел десятый шар Буббы.
— Ну, у меня две причины. — Он ударил битком девятый шар, проследил за его движением по столу и, когда биток упал в боковую лузу, закрыл глаза. Для человека, так много играющего в бильярд, Бубба играл позорно слабо.
Я достал биток, положил на стол и собрался бить четвертый в боковую лузу.
— Причина номер один?
— Я тебе доверяю, а ты мне обязан.
— Это уже две причины.
— Это одна. Заткнись и играй давай.
Я загнал четвертый в лузу, а биток стал так, что стало очень удобно бить второй шар.
— Причина номер два, — сказал Бубба, энергично крутя кий и намазывая его мелом, причем возникали звуки, похожие на писк, — хочу, чтобы ты посмотрел на покупателей.
Я загнал в лузу второй, но биток оказался «похороненным» за одним из шаров Буббы.
— Почему?
— Поверь мне. Не пожалеешь.
— А просто так сказать не можешь?
— Я не уверен, что они те, за кого я их принимаю. Так что поедешь со мной, сам увидишь.
— Когда?
— Вот выиграю эту партию, и поедем.
— Насколько это опасно? — спросил я.
— Не опасней обычного.
— А, — сказал я. — Значит, очень опасно.
— Не строй из себя целку. Бей давай.
Джермантаун узкой полосой прилегает к заливу, отделяющему Квинси от Уэймаут. Свое название он получил в середине восемнадцатого века, когда владелец стекольного завода привозил из Германии рабочих-сервентов[41] и строил здесь жилые кварталы с широкими улицами и просторными площадями так, как это было принято там. Компания, владевшая заводом, прогорела, и стало очевидно, что дешевле отпустить рабочих на свободу, чем отправлять куда-то в другое место. Поэтому немцы выживали, кто как умел.
Потом в небольшом портовом городке последовала целая череда банкротств, которые, казалось, преследовали несколько поколений потомков сервентов. Здесь на протяжении следующих двух столетий появлялись и разорялись свои гончары, изготовители шоколада, чулок, продуктов, приготовленных на китовом жиру, медицинских солей и селитры. Одно время неплохо развивалась переработка трески и продуктов китобойного промысла, но и они со временем переместились на север к Глостеру и южнее к мысу Код в поисках лучших уловов и чистой воды.
Джермантаун стал забытым городом, его воды оказались отрезанными от его жителей проволочной изгородью и загрязнены верфями Квинси, электростанцией, танкерами и фабрикой «Проктер энд Гэмбл», силуэты корпусов которой только и виднелись на горизонте. Давние эксперименты с предоставлением государственного жилья ветеранам войны изуродовали побережье кварталами каменных мешков цвета пемзы, каждый состоял из четырех зданий по шестнадцать квартир, в плане расположенных подковами, внутри которых из луж с ржавой водой на потрескавшемся гудроне торчали металлические кронштейны — предполагалось, что на них будут натягивать веревки, чтобы сушить белье.
Бубба остановил свой «хаммер» перед домом, стоявшим в квартале от моря между двумя строениями, судя по их виду, явно ожидающими сноса. В темноте казалось, что и дом, куда мы собирались войти, тоже покосился и просел, и, хотя мелких деталей в темноте я не видел, дух ветхости над ним определенно тоже витал.
У пожилого человечка, открывшего нам дверь, коротко стриженная борода покрывала челюсти серебряными и черными прямоугольными кустиками, но почему-то не желала расти на сильно вытянутом подбородке, оставляя круг морщинистой розовой кожи, который, временами изменяя форму, напоминал подмигивающий глаз. Ему было от пятидесяти до шестидесяти лет, но тщедушное тело узловато и криво изгибалось, что делало его на вид гораздо старше. Видавшая виды бейсбольная кепка с эмблемой «Ред сокс» казалась слишком маленькой даже для его крошечной головы. Желтая футболка не прикрывала молочно-белый морщинистый живот, черные нейлоновые штаны в обтяжку доходили до лодыжек и у промежности вздувались так, будто там находилось что-то размером со сжатый кулак.
Человечек надвинул на глаза бейсбольную кепку и спросил Буббу:
— Джером Миллер?
Это было излюбленное прозвище Буббы. Так звали героя Бо Хопкинса в фильме «Элита убийц», фильме, который Бубба посмотрел примерно одиннадцать тысяч раз и мог цитировать с любого места.
— А ты как думал? — Огромное туловище Буббы надвинулось на человечка и скрыло его от моего взгляда.
— Я просто спросил, — попятился человечек.
— Пасхальный заяц я, стою у твоего порога со спортивной сумкой, набитой пистолетами. — Бубба навис над человечком. — Дай войти-то, твою мать.
Переступив через порог, мы оказались в темной гостиной. Накурено было так, что хоть топор вешай. Человечек склонился над кофейным столиком, взял из переполненной пепельницы дымящийся окурок, влажно чмокая, затянулся и нетерпеливо уставился на нас сквозь дым.
— Ну, покажи, — сказал он.
— Свет зажечь не хочешь? — спросил Бубба.
— Тут нет света.
Бубба широко, но холодно улыбнулся — сплошные зубы.
— Пошли в комнату, где есть.
Человечек пожал костлявыми плечами:
— Как скажешь.
Мы пошли за ним по узкому коридору, и я обратил внимание, что ремешки на бейсболке не застегнуты и торчат, далеко не соприкасаясь друг с другом. Вообще кепка при взгляде сзади сидела у него на голове как-то странно, на самой макушке. Я пытался сообразить, кого он мне напоминает. Поскольку пожилых людей, носящих футболки и брючки в обтяжку, я знал совсем немного, список возможных знакомых должен оказаться сравнительно коротким. Но было в нем что-то знакомое, и я стал думать, что, пожалуй, меня сбивает с толку борода или бейсболка.
В коридоре пахло, как от грязной воды в ванне, простоявшей несколько дней, от стен несло плесенью. Здесь было четыре двери, еще одна в конце — черный ход. На втором этаже что-то вдруг как будто упало с глухим стуком.
Потолок завибрировал, усиливая басовые колебания динамиков, хотя музыка звучала еле слышно, шепотком, будто доносилась из соседнего квартала.
Мы поравнялись с первыми двумя дверями. Я заглянул в ту, что была слева. Она вела в полутемную комнату. Опущенные жалюзи пропускали так мало света, что я увидел лишь какие-то формы и тени и не сразу догадался, что передо мной кресло с подножием и регулируемым наклоном спинки и стопки либо книг, либо журналов. Из дверного проема повеяло затхлым запахом помещения, где курят сигары и давно не проветривали.
Другая дверь, справа, вела на кухню, залитую белым светом, мне показалось, флуоресцентной лампы не бытового, а промышленного назначения и мощности — такие обычно можно увидеть на стоянках грузовиков. Она не освещала помещение, но уничтожала все краски, и мне пришлось поморгать, чтобы снова обрести способность видеть.
Человечек взял со стойки какой-то небольшой предмет и бросил в мою сторону. Я еле успел поймать это нечто, оказавшееся бумажным пакетом, набитым денежными купюрами. Я передал пакет Буббе.
— Хорошие руки, — сказал человечек и усмехнулся, глядя на Буббу, при этом обнажились желтые прокуренные зубы. — Вашу сумку, сэр.
Бубба ударил спортивной сумкой человечка по груди, да так сильно, что тот сел на пол, покрытый черно-белой плиткой, и расставил по ней руки для опоры.
— Плохие руки, — сказал Бубба. — Может, я просто положу ее на стол?
Человечек посмотрел на него, кивнул и поморгал от яркого света лампы, висевшей как раз перед ним.
Именно нос, решил я, кажется мне таким знакомым. Этот его ястребиный изгиб. Нос выступал над плоским лицом и изгибался так сильно, что его кончик отбрасывал тень на губы.
Человечек поднялся с пола, отряхнул сзади черные брючки, стал у стола, посмотрел на Буббу, который расстегивал сумку, и потер руки.
Глаза его засветились оранжевым светом, как задние фары у автомобиля, на верхней губе выступили капли испарины.
Бубба развел борта сумки.
— Так вот они, мои деточки, — сказал человечек.
В ярком свете лампы маслянисто поблескивали четыре автоматических «Каликоу М-110» из черного сплава с алюминиевой добавкой. Один из самых необычных пистолетов, которые мне доводилось видеть, «М-110» делает сто выстрелов в минуту из одного спирального магазина, такого же, какие используются для карабинов «каликоу». В длину он примерно сорок три сантиметра, на рукоятку и ствол приходятся двадцать, а затворная рама и большая часть рамы собственно пистолета выступают позади рукоятки. Он напоминает мне то, что мы в детстве мастерили из резиновой ленты, бельевых прищепок и палочек от фруктового мороженого, чтобы стрелять друг в друга канцелярскими скрепками.
Но резиновая лента и палочки от фруктового мороженого позволяли делать не более десяти выстрелов в минуту. Этот «М-110», полностью автоматический, способен выпустить сто пуль примерно за пятнадцать секунд.
Человечек положил пистолет на ладонь, оценивая вес, бледные глаза его маслено блестели. Он облизнул губы, будто наслаждение стрельбой мог чувствовать на вкус.
— Запасаетесь на случай войны? — спросил я.
Бубба косо посмотрел на меня и стал пересчитывать деньги из бумажного пакета.
Человечек улыбался пистолету, как котенку.
— Гонения существуют всегда и всюду, дорогой. Надо быть во всеоружии. — Он кончиками пальцев погладил раму пистолета. — О, ты мой, мой, мой, — заворковал он.
И тут я его узнал.
Леон Третт, педофил, фотографию которого Бруссард дал нам в самые первые дни после исчезновения Аманды Маккриди. Человек, подозреваемый в растлении более пятнадцати детей и в похищении двух.
И такого человека мы только что вооружили! Черт побери!
Он вдруг взглянул на меня так, будто понял, о чем я думаю, а я похолодел и в сальном блеске его водянистых глаз почувствовал себя маленьким.
— А магазины? — сказал он.
— Когда буду уходить, — сказал Бубба. — Не мешай, видишь — считаю.
Леон Третт сделал шаг в сторону Буббы:
— Нет-нет. Тогда уже будет поздно. Сейчас.
— Заткнись, — сказал Бубба. — Не видишь, я считаю, четыреста пятьдесят, шестьдесят, шестьдесят пять, — бормотал он себе под нос, — семьдесят, семьдесят пять…
Леон Третт покачал головой, как будто от этого Бубба мог прислушаться к его доводам и отдать магазины.
— Мне нужны магазины сейчас. Я за них заплатил.
Он потянулся к руке Буббы, но тот толкнул его на маленький столик, стоявший под окном.
— Козел! — Бубба смешал в кучу банкноты, которые держал в руках. — Теперь придется все сначала.
— Ты мне магазины дай. — В голосе Третта появились интонации избалованного восьмилетнего ребенка. — Дай мне магазины.
— Да пошел ты, — торопливо проговорил Бубба, снова начавший считать деньги.
Глаза Третта наполнились слезами, он схватил двумя руками пистолет.
— В чем дело, малыш?
Я повернулся на голос и увидел невероятных размеров существо. Это была не амазонка, а женщина-монстр, тучная, покрытая вся густым седым волосом, который поднимался торчком от макушки по крайней мере сантиметров на десять и потом рассыпался по разные стороны головы, скрывая скулы и углы глаз, а также покрывал ее широкие плечи.
Она стояла в дверях кухни, держа в гигантской ручище пистолет. Одета она была с головы до ног в коричневый балахон, с трудом скрывающий могучие колышущиеся телеса.
Роберта Третт. Фотография давала о ней лишь слабое представление, далеко не соответствующее действительности.
— Они мне магазины не дают, — сказал Леон. — Деньги взяли, а магазины не дают.
Роберта медленно обвела глазами кухню. Единственный, кто не обратил на нее внимания, был Бубба. Он считал.
Роберта небрежно ткнула пистолетом в мою сторону:
— Давай магазины.
Я пожал плечами:
— У меня их нет.
— Ты. — Она махнула пистолетом в сторону Буббы: — Эй, ты.
— …восемьсот пятьдесят, — пробормотал Бубба, — восемьсот шестьдесят, восемьсот семьдесят…
— Эй! — прикрикнула Роберта. — На меня смотри, когда я говорю.
Бубба слегка повернул голову в ее сторону, продолжая смотреть на деньги.
— Девятьсот. Девятьсот десять, девятьсот двадцать…
— Мистер Миллер, — сказал Леон с отчаянием в голосе, — моя жена с вами разговаривает.
— …девятьсот шестьдесят пять, девятьсот семьдесят…
— Мистер Миллер, — взвизгнул Леон до того пронзительно, что у меня зазвенело в ушах.
— Одна тысяча. — Бубба остановился, убрал в карман пиджака пересчитанные купюры, а то, что еще предстояло пересчитать, держал в руке.
Леон с облегчением вздохнул, решив, что сейчас все решится само собой. Бубба взглянул на меня так, будто не понимал, из-за чего сыр-бор.
Роберта опустила пистолет.
— Ну, мистер Миллер, если мы сейчас сможем…
Бубба лизнул подушечку большого пальца и взял верхнюю банкноту из пачки, которая оставалась у него в руке.
— Двадцать, сорок, шестьдесят, восемьдесят, сто…
Леон Третт изменился в лице, будто у него в мозгу произошла закупорка кровеносного сосуда. Белое как мел лицо стало алым и вспухло, он схватил незаряженный пистолет двумя руками и стал прыгать с ним взад-вперед, как ребенок, которому срочно надо на горшок.
Роберта Третт снова подняла пистолет, навела ствол на голову Буббы, прищурила левый глаз, прицелилась и взвела курок.
В резком свете лампы фигуры стоявших посреди кухни Роберты и Буббы контрастно выделялись на фоне интерьера, на порождения природы таких размеров обычно взбираются с помощью веревок и специальных крюков, и просто трудно было себе представить, что они могут быть порождением человека.
Я тихонько вытащил свой пистолет, завел руку за спину, снял его с предохранителя.
— Двести двадцать, — бормотал Бубба.
Роберта сделала к нему еще шаг.
— Двести тридцать, двести сорок, слышь, чувак, да застрели ты эту суку, будь добр, двести пятьдесят, двести шестьдесят…
Роберта Третт застыла, будто споткнулась. Казалось, она растерялась, не понимает, что делать дальше, и совершенно незнакома с таким состоянием. Думаю, ей ни разу в жизни не приходилось сталкиваться с таким невниманием к своей особе.
— Мистер Миллер, вы сейчас перестанете считать. — Она выставила распрямленную руку с пистолетом под прямым углом к туловищу, костяшки пальцев на фоне черной стали казались совсем белыми.
— …триста, триста десять, триста двадцать, я же говорю, пристрели эту кобылу, триста тридцать…
На этот раз Роберта не могла сомневаться в том, что услышала. Запястье задрожало, пистолет заходил ходуном.
— Мадам, — попросил я, — положите пистолет.
Она видела, что я стою на месте, но ее явно обеспокоило, что она не видит мою правую руку. Тут-то я большим пальцем и взвел боек, он щелкнул, и этот щелчок был слышен так же ясно, как мог бы быть слышен и сам выстрел.
— …четыреста пятьдесят, четыреста шестьдесят, четыреста семьдесят…
Роберта Третт посмотрела через плечо Буббы на Леона, дуло ее пистолета изрядно подрагивало. Бубба считал.
В глубине дома, в дальнем конце коридора, делившего здание пополам, послышался шум: дверь там резко открыли и сразу же закрыли. Роберта стрельнула глазами в ту сторону, потом снова посмотрела на Леона.
— Останови его, — сказал Леон. — Пусть перестанет считать. Мне это больно видеть.
— …шестьсот, — сказал Бубба, повысив голос, — шестьсот десять, шестьсот двадцать, шестьсот двадцать пять, ну, хватит уж пятерок-то, шестьсот тридцать…
В коридоре послышались тихие приближающиеся шаги, Роберта напряглась.
— Хватит, — сказал Леон. — Перестань считать.
Другой человечек, еще меньше ростом, чем Леон, скованно ступая, вошел в кухню. Его темные глаза широко раскрылись от удивления и замешательства. Я приставил пистолет к его лбу. Грудь у него была до того впалая, что казалось, вместе с грудиной выгнута совсем не в ту сторону, как положено природой человеку. Живот выпирал вперед, как у пигмея. Правый глаз косил и все ускользал от нас, как уносимая морским течением лодка. В белом свете люминесцентной лампы над правым соском краснели мелкие царапины. Если не считать небольшого синего махрового полотенца, он был гол, и потная кожа поблескивала в ярком свете.
— Корвин, — сказала Роберта, — иди к себе.
Корвин Орл. Видно, он в конце концов нашел свою семью.
— Корвин останется здесь. — Я вытянул руку и убедился, что здоровый глаз Орла заглянул в дуло. Он кивнул, покорно уронил руки.
Глаза обитателей дома обратились к Буббе.
— Две тысячи! — воскликнул он и поднял над собой пачку купюр.
— Мы согласны на компенсацию. — Голос Роберты дрожал. — А теперь завершим сделку, мистер Миллер. Дайте нам магазины.
— Дайте нам эти магазины! — взвизгнул Леон.
Бубба через плечо взглянул на него.
Корвин Орл сделал шаг назад, но я строго покачал головой: «Не вздумай». Он сглотнул. Я сделал пистолетом знак приблизиться, и он повиновался.
Бубба усмехнулся. От этой усмешки Роберта совсем сникла.
— Магазины. — Бубба обернулся к Роберте и тут, кажется, впервые заметил направленный на себя пистолет. — Разумеется.
Он поджал губы и послал Роберте воздушный поцелуй. Она заморгала и отшатнулась, словно в нее пшикнули ядовитым газом.
Бубба полез в карман плаща и резко выхватил оттуда руку.
— Э-э-э, — проблеял Леон.
Бубба шлепнул Роберту по запястью, пистолет выскользнул у нее из руки и, описав дугу, полетел через мойку и стойку.
Все, кроме Буббы, пригнулись.
От удара о стену сработал механизм, раздался выстрел. Пуля проделала дыру в дешевом пластике за раковиной и отлетела рикошетом в стену рядом с окном, под которым скорчился Леон. Пистолет с громким стуком упал на стойку и развернулся дулом к запыленной решетчатой сушилке для посуды.
Бубба взглянул на дыру в стене.
— Круто.
Все, кроме Леона, выпрямились. Он сидел на полу, приложив руку к сердцу, и эти его выцветшие глаза смотрели так твердо, что я понимал: он совсем не такая размазня, какой мог показаться, пока Бубба считал деньги. Это была лишь маска, роль, которую, как я решил, он играл, чтобы мы о нем забыли и не обращали на него внимания. Сейчас, сидя на полу и с неприкрытой ненавистью глядя на Буббу, он эту маску сбросил.
Бубба запихнул вторую пачку купюр в карман, подошел к Роберте.
— Ты, Зена[42] Большая, на меня пушку наставляла. — Он потер ладонью нижнюю часть лица, наполнив пространство кухни шуршанием щетины о грубую кожу. Руки Роберты безжизненно повисли.
Бубба ласково улыбнулся.
— Ну что, сейчас тебя прикончить? — спросил он очень тихо.
Роберта качнула головой.
— Точно?
Она заторможенно кивнула.
— Ты же, как ни крути, пушку на меня наставляла.
Роберта снова кивнула, хотела что-то сказать, но вместо слов раздалось какое-то хриплое бульканье.
— Это что было?
Она сглотнула.
— Простите, мистер Миллер.
— О, — кивнул Бубба.
Он подмигнул мне, и в его улыбке я подметил уже знакомый мне злой зеленый огонек, верный признак того, что теперь может случиться что угодно. Совершенно что угодно. Леон, цепляясь за кухонный стол, медленно поднимался на ноги.
Бубба не сводил глаз с Роберты, но явно хорошо представлял, что происходит у него за спиной.
— Дотронешься до «Чартера-22», который у тебя под столом прилеплен, я тебе им же яйца отстрелю.
Рука Леона, лежавшая на краю стола, отдернулась и повисла вдоль туловища.
Волосы прилипли к потному лбу Корвина, струившийся по нему пот заливал глаза. Он схватился рукой за притолоку.
Бубба подошел ко мне и, не сводя глаз со своих «покупателей», прошептал одними губами: «Они вооружены до зубов. Уходить придется резко. Понял?»
Я кивнул.
Леон взглянул сначала на стол, потом на буфет, потом на висевшую на стене рядом с дверью ржавую, в комках налипшей грязи сушилку для посуды. Похоже, ею не пользовались уже лет десять.
Орл смотрел туда же, куда и Леон. Потом они переглянулись и как будто приободрились.
Бубба прав. Мы, похоже, попали в Тумстон[43] нашего времени. Один неверный шаг и перед нами разыграют ремейк перестрелки в «О’кей корале».
— Пожалуйста, — попросила Роберта, — уходите.
— А как же магазины? — удивился Бубба. — Вы же хотели магазины. Они вам все еще нужны?
— Я…
Бубба коснулся кончиками пальцев ее подбородка.
— Да или нет?
Она закрыла глаза.
— Да.
— Простите, — просиял Бубба. — Но вы их не получите. Нам пора.
Он взглянул на меня, склонил голову набок и направился к двери.
Корвин прижался к стене. Держа пистолет дулом в сторону кухни, я попятился следом за Буббой, увидел белые от ярости глаза Леона и понял, что погоня неизбежна.
Я взял Корвина Орла за шкирку, толкнул на середину кухни, поближе к Роберте. Поймал глаза Леона.
— Только пикни. Убью, — пообещал я. — Оставайся на кухне.
Визгливый голосок восьмилетнего баловня пропал. Вместо него прорезался хрипловатый колючий бас:
— Тебе, парень, еще до входной двери дойти надо. Путь неблизкий.
Я попятился в коридор, по-прежнему держа пистолет дулом в сторону кухни. Бубба стоял в нескольких метрах от меня, посвистывая.
— Может, уже пора валить отсюда? — прошептал я.
Он оглянулся.
— Может быть.
Грохоча сапогами по старым половым доскам и маниакально хохоча, Бубба бросился к выходу. Хохот гулко разносился по всему дому.
Я бросился следом. Я слышал, как обитатели дома возятся на кухне, как открывается дверца сушилки, как затем, вращаясь на петлях, падает, возвращаясь в закрытое состояние, и спиной чувствовал, как в меня целятся.
Бубба не стал тратить время на открывание двери с сеткой, отделявшей нас от свободы, он пробежал прямо сквозь нее, деревянная рама разлетелась на части, зеленая сетка, как вуаль, окутала его голову.
На пороге я рискнул оглянуться. Леон выходил в коридор с вытянутой рукой. Я успел выскочить на улицу, остановился, навел на него пистолет. Долгое мгновение мы целились друг в друга.
Наконец Леон опустил руку и покачал головой:
— В другой раз.
— Разумеется, — согласился я.
На лужайке Бубба, по-прежнему хохоча, избавлялся от остатков рамы с прикрепленной к ней сеткой.
— Я — Конан-Варвар! — кричал он, раскидывая руки в стороны. — Великий убийца злых гномов! Никто из людей не осмелится испытать мою отвагу и силу в битве! Ха-ха-ха!
Мы трусцой припустили к «хаммеру». Добежав до него, я стал лицом к дому, держа пистолет двумя руками, а Бубба забрался внутрь и отпер дверцу у переднего пассажирского сиденья. Дом, казалось, вымер.
Я забрался в машину, и Бубба рванул с места, не успел я закрыть дверцу.
— Зачем обманул с магазинами? — спросил я, когда нас и Треттов разделял по крайней мере квартал.
Бубба проехал под «кирпич».
— Достали они меня. Считать мешали, козлы.
— Так в этом все дело? Потому и зажал магазины?
Он нахмурился.
— Терпеть не могу, когда считать мешают. Ненавижу.
— Слушай, — вдруг вспомнил я, — а что ты такое нес про злых гномов?
— Что?
— У Конана нет никаких злых гномов.
— Точно?
— Точно.
— Черт.
— Прости.
— Ну почему тебе обязательно надо все испохабить? — обиделся Бубба. — Зануда проклятый!
— Энджи! — крикнул я, ввалившись с Буббой домой.
Она выглянула из маленькой спальни, в которой работала.
— Что стряслось?
— Ты ведь следила за делом Пьетро, верно?
Она помрачнела:
— Да.
— Пошли в гостиную, — сказал я и потащил ее за собой. — Пошли-пошли.
Она подозрительно посмотрела на меня, потом на Буббу, который, покачиваясь взад-вперед на каблуках, выдул огромный шар жвачки «базука».
— Вы пьяные, что ли?
— Отнюдь, мэм. Идем-идем.
Мы зажгли в гостиной свет и рассказали о своем визите к Треттам.
— Два придурка, — сказала она, дослушав до конца. — Два маленьких психа, решили сыграть против ненормальной семейки.
— Да ладно тебе, — сказал я. — Энджи, как был одет исчезнувший Сэмюэл Пьетро?
Она откинулась на спинку стула.
— Джинсы, красная водолазка поверх белой футболки, парка синяя с красным, черные варежки, кроссовки выше щиколотки. — Она прищурилась и посмотрела на меня. — Так что?
— И все? — спросил Бубба.
Энджи пожала плечами:
— Да. Ну, еще бейсбольная кепочка с надписью «Ред сокс».
Я посмотрел на Буббу, он кивнул и поднял вверх руки.
— Мне туда нельзя. У них мои пистолеты.
— Не беда, — сказал я. — Сейчас позвоним Пулу и Бруссарду.
— Зачем звонить Пулу и Бруссарду? — не поняла Энджи.
— Так вы видели Третта в бейсбольной кепке «Ред сокс»? — Мы с Пулом сидели в кофейне «Волластон».
Я кивнул.
— Которая была ему мала. На три-четыре размера меньше, чем нужно.
— И это наводит вас на мысль, что вышеупомянутая кепка принадлежала Сэмюэлу Пьетро.
Я снова кивнул.
Бруссард посмотрел на Энджи:
— Вы согласны?
Она закурила.
— По обстоятельствам подходит. Третты живут в Джермантауне, прямо напротив Уэймаута, недалеко от игровой площадки «Нантакет-бич», где Пьетро находился непосредственно перед исчезновением. И карьеры, карьеры тоже не слишком далеко от Джермантауна, и…
Бруссард скомкал пустую пачку из-под сигарет и бросил ее на стол.
— Думаете, та же история, что и с Амандой Маккриди? Считаете, раз Третт живет в радиусе восьми километров от карьеров, значит, он ее и убил? Вы это серьезно? — Он посмотрел на Пула, и оба покачали головами.
— Вы показали нам фотографии Треттов и Корвина Орла, — сказала Энджи. — Помните? Вы рассказали, что Корвин Орл подбирает детей для Треттов. Вы сказали, чтобы мы держали с ним ухо востро. Это же вы были, детектив Бруссард, не так ли?
— Патрульный, — напомнил ей Бруссард. — Я уже больше не детектив.
— Что ж, — сказала Энджи, — если десантировать нас где-нибудь поблизости от Треттов и дать немного пошуровать вокруг, может быть, снова им станете.
Дом Третта стоял метрах в десяти от дороги на поле, заросшем высокой травой. За янтарной завесой дождя маленький белый домик был как на крупнозернистой расплывчатой фотографии, заляпанной огромными, испачканными копотью и двигавшимися кругами пальцами. Рядом с фундаментом, однако, кто-то разбил небольшой садик, на цветах было много бутонов, они как раз начинали распускаться. Бросалось в глаза несоответствие ухоженных пурпурных крокусов, белых подснежников, алых тюльпанов и нежно-желтых форсайтий и такого грязного ветхого жилища.
Роберта Третт, вспомнил я, прежде была цветоводом, и, по-видимому, способным, раз смогла вырастить такую красоту на каменистой почве да еще при наших долгих зимах. Трудно было заподозрить наличие столь тонкого вкуса в этой неуклюжей туше, хладнокровно целившейся Буббе в голову.
Окна второго этажа, выходившие на дорогу, были заколочены черными досками. Под ними дранка растрескалась и местами отсутствовала, так что верхняя треть дома напоминала треугольное лицо с пустыми глазницами и безумной беззубой улыбкой. Накануне, подходя к дому в темноте, я подумал, что он весь пронизан тленом. Та же мысль мелькнула и сегодня, хоть и был виден аккуратный садик.
Высокий забор со спиралью колючей проволоки поверху отделял владение Треттов от соседей с тыла. Окна дома с обеих сторон выходили на участки площадью по двадцать соток, где, кроме травы и заброшенных домов, больше ничего не было.
— Придется через парадную дверь, иначе никак, — сказала Энджи.
— Похоже, — согласился Пул.
На лужайке лежала рама с прикрепленной к ней сеткой, которую Бубба сломал вчера вечером, вход в дом закрывала парадная дверь, белая, деревянная, с трещинками посередине. Стояла неприятная тишина. Насколько мы успели заметить, желающих здесь жить было немного. Вчера при нас мимо дома проехала лишь одна машина.
Задняя дверь «краун-виктории» открылась, к нам забрался Бруссард и стал стряхивать с волос дождевую воду. Капли попали на Пула.
— Ты ну чисто пес. — Пул недовольно утерся.
Бруссард усмехнулся.
— Я промок до нитки.
— Заметно. — Пул вытащил из нагрудного кармана носовой платок. — Повторяю: совсем в пса превратился?
— В ерша. — Бруссард еще раз встряхнул головой. — Задняя дверь там, где сказал Кензи. Расположена примерно так же, как парадная, только с тыла. Одно окно наверху выходит на восток, одно на запад, одно в тыл. Все заколочены. Окна первого этажа занавешены плотными шторами. У заднего угла дома, метрах в трех направо от двери — запертая пристройка.
— Какие-нибудь признаки жизни есть? — спросила Энджи.
— Ничего не могу сказать. Шторы плотные.
— Так что делать будем? — сказал я.
Бруссард взял у Пула платок, промокнул лицо и бросил его на колени владельцу. Тот взглянул на платок с удивлением и примесью отвращения.
— Делать? — сказал Бруссард. — Вы двое, — он поднял брови и посмотрел на нас с Энджи, — ничего делать не будете. Вы — люди гражданские. Если пойдете через заднюю дверь или вообще хоть словом обмолвитесь о наших планах, я вас арестую. Мы с моим бывшим и будущим напарником подойдем к дому, постучим в дверь и посмотрим, не захочется ли мистеру Третту и его жене с нами поболтать. Они нас пошлют, тогда позвоним в полицию Квинси и попросим подкрепления.
— Может, сразу попросить? — подала голос Энджи.
Бруссард сочувственно переглянулся с Пулом.
— Нельзя вызывать подкрепление, не имея для этого веских оснований, мисс Дженнаро.
— Но они у вас появятся, едва в дверь постучитесь.
— Если у них хватит ума открыть, — сказал Пул.
— А вы что, — сказал я, — думаете, удастся заглянуть в щелочку, и сразу увидите Сэмюэла Пьетро с плакатом «ПОМОГИТЕ»?
Пул пожал плечами.
— Иногда просто поражаешься, как много можно услышать через щелку приоткрытой двери, мистер Кензи. Бывает, конечно, полицейские принимают свист чайника за крик ребенка. Досадно, когда из-за таких вот ошибок вышибают двери, крушат мебель, избивают жильцов, но при достаточных основаниях такие действия законом разрешаются. Система правосудия порочна, но другой у нас нет.
Пул достал из кармана двадцатипятицентовую монету, положил на ноготь большого пальца и подтолкнул локтем Бруссарда:
— Давай.
— В какую дверь?
— По статистике идущий через парадную попадает под более плотный огонь.
Бруссард посмотрел за окно на идущий дождь.
— По статистике.
Пул кивнул.
— Но к задней двери путь неблизкий.
— И все по открытой местности.
Пул опять кивнул.
— Проигравший постучит в заднюю дверь.
— Почему бы вам обоим не пойти через парадную?
Пул закатил глаза.
— Потому что их по меньшей мере трое, мистер Кензи.
— Разделяй и властвуй, — сказал Бруссард.
— А как же все эти пистолеты? — спросила Энджи.
— Которые якобы видел у них ваш загадочный друг? — спросил Пул.
Я кивнул:
— Да, эти. «Каликоу М-110», так ему показалось.
— Но без магазинов.
— По крайней мере, вчера вечером магазинов не было, — сказал я. — Но, может, они за эти шестнадцать часов ухитрились раздобыть где-нибудь в другом месте.
Пул кивнул.
— Плотный будет огонь, если достали магазины.
— Давайте решать проблемы по мере их поступления. Никогда не могу угадать, какой стороной упадет.
— И все же попробуй.
Бруссард вздохнул.
— Орел.
Пул подбросил монету, она взлетела, вращаясь, в полумраке салона машины, на долю секунды осветилась янтарным светом, сверкнула золотом и упала в подставленную ладонь.
Бруссард взглянул на монету и недовольно поморщился.
— Может, два из трех?
Пул покачал головой и убрал монету в карман.
— Я — с парадного, ты — с заднего.
Бруссард прислонился к спинке сиденья.
С минуту все молчали, глядя сквозь косой дождь на облезлый, обшарпанный домишко с просевшим крыльцом, ободранной дранкой и заколоченными окнами. Невозможно было представить себе людей, занимающихся любовью в его спальнях, детей, играющих во дворе, смех, перекатывающийся от стен к потолку, — ничего, что имело отношение к нормальной жизни, не могло иметь отношения к этой хибаре.
— Дробовики? — наконец сказал Бруссард.
Пул кивнул.
— Ну чистый вестерн получается.
Бруссард потянулся к дверной ручке.
— Боюсь испортить вам этот эпизод, в котором очень хорошо смотрелся бы Джон Уэйн,[44] — заметила Энджи, — но вы не думаете, что обитателям дома дробовики покажутся подозрительными, ведь вы скажете, что приехали поговорить?
— Не увидят дробовики, — сказал Бруссард и открыл дверцу, за которой шел дождь. — Вот зачем Господь создал плащи.
Бруссард пересек дорогу, прошел к «таурусу» и открыл багажник. Машину они остановили под деревом, которому, наверное, было столько же лет, сколько самому городу. Большая крона, узловатый ствол, выступающие из тротуара корни. Из дома Треттов за деревом «таурус» был не виден.
— Так что подозрений мы не вызовем, — спокойно сказал Пул с заднего сиденья.
Бруссард вытащил из багажника плащ и надел его. Я оглянулся на Пула.
— Если что, звоните по сотовому девять-один-один. — Он потянулся вперед и приложил по указательному пальцу к нашим лицам. — Ни при каких обстоятельствах вы не выходите из машины. Мы друг друга поняли?
— Я понял, — сказал я.
— Мисс Дженнаро?
Энджи кивнула.
— Ну, в таком случае все чудесно. — Пул открыл дверцу и вышел под дождь.
Он перешел через дорогу, стал рядом с напарником у багажника «тауруса» и что-то ему сказал. Бруссард кивнул и, глядя в нашу сторону, спрятал дробовик под плащом.
— Ковбои, — сказала Энджи.
— Для Бруссарда это возможность вернуть себе звание детектива. Конечно, он возбужден.
— Слишком сильно? — спросила Энджи.
Бруссард, кажется, читал сказанное по губам.
Глядя в окно, по которому ручейками стекала дождевая вода, мы видели, как он улыбнулся, пожал плечами, повернулся к своему пожилому напарнику и что-то сказал ему на ухо. Пул похлопал Бруссарда по спине, тот двинулся от «тауруса» через косой дождь вперед по дороге, вошел на участок Треттов с восточной стороны, без труда пробрался сквозь высокую траву и скрылся за домом.
Пул закрыл багажник, оправил на себе плащ так, что дробовик, зажатый под мышкой правой руки, стал незаметен, и пошел по дороге к дому, держа «глок» за спиной в левой, подняв голову и глядя на заколоченные окна второго этажа.
— Видал? — сказала Энджи.
— Что?
— Окно слева от парадной двери. По-моему, штора пошевелилась.
— Точно?
Она покачала головой.
— Я же сказала, «по-моему». — Энджи достала из сумочки сотовый телефон и положила себе на колени.
Пул между тем подошел к крыльцу. Он уже занес ногу, чтобы ступить на первую ступеньку, но, видимо, заметил что-то, что очень ему не понравилось, потому что он поставил ногу не на первую ступеньку, а сразу на вторую и оказался на крыльце.
Крыльцо посередине сильно просело, и Пул стоял, отклонившись от двери влево, расставив ноги по разные стороны от желоба, по которому струилась дождевая вода.
Он повернул голову в сторону окна слева от двери и в таком положении на мгновение замер, потом повернулся к окну справа от нее и некоторое время смотрел на него.
Я потянулся в бардачок и достал оттуда пистолет 45-го калибра.
Энджи запустила руку в бардачок одновременно со мной, достала свой пистолет 38-го калибра, проверила барабан и со щелчком вернула его на место.
Пул приблизился к парадному входу, поднял вверх руку, державшую «глок», постучал костяшками пальцев по двери, отступил и подождал. Повернул голову налево, направо, потом снова к двери. Наклонился вперед и снова постучал в дверь.
Редкий косой дождь шел почти неслышно, свистел ветер, других звуков не было.
Пул наклонился и попробовал повернуть дверную ручку в форме шара вправо и влево. Дверь оставалась закрытой. Он постучал в третий раз.
Мимо нас проехал бежевый «вольво» с универсальным кузовом и велосипедами, закрепленными на крыше. За рулем сгорбившись сидела женщина в желто-оранжевом платке с узким нервным лицом. Мы посмотрели ей вслед. У знака «стоп» метров через сто вспыхнули красные стоп-сигналы, машина повернула налево и скрылась из виду.
Сквозь свист ветра из-за дома донесся выстрел, послышался звон разбитого стекла. В шепоте дождя что-то взвизгнуло, как неисправные тормоза.
Пул посмотрел на нас, занес ногу, собираясь ударить по двери, но вдруг исчез среди полетевших щепок и вспышек пламени, сопровождавшихся стрекотанием автоматического оружия.
Выстрелы сбили его с ног, он налетел на перила, они треснули и оторвались от стойки, как рука, вырванная из плечевого сустава. Пул выпустил «глок», и он упал на цветочную клумбу у крыльца, а дробовик, клацая, поехал вниз по ступеням.
Огонь прекратился так же неожиданно, как начался.
Сидя в машине, мы на мгновение замерли. Прекратившаяся стрельба все еще продолжалась у нас в головах. Дробовик Пула соскользнул с последней ступеньки, приклад скрылся в траве, дуло же, черное и влажное, поблескивало на дорожке. Налетевший порыв ветра налег на старую крышу, застучал рамами, в доме что-то заскрежетало, заскрипело, и дождь припустил с новой силой.
Я открыл дверцу машины, выскочил на дорогу и, пригнувшись как можно ниже, побежал к дому. В тихом шелесте дождя я слышал лишь топот своих резиновых подошв сначала по мокрому асфальту, потом по гравию.
Энджи бежала рядом, приложив к правому уху сотовый телефон.
— Ранен полицейский, Джермантаун, улица Адмирала Фаррагата, триста двадцать два. Повторяю. Ранен полицейский, Джермантаун, улица Адмирала Фаррагата, триста двадцать два.
Мы бежали по дорожке к крыльцу, я смотрел то на окна, то на дверь. От нее осталось фактически одно название, как будто тут поработали крупные животные с саблеобразными клыками. В древесине зияли рваные отверстия, сквозь некоторые можно было увидеть, что делается в доме, разглядеть там приглушенные краски и свет.
Едва мы подбежали к ступеням, в дырах стало черно. Я ударил правой рукой, сбил Энджи с ног на лужайку, а сам нырнул влево.
Мир будто взорвался. Невозможно подготовить себя к ощущению, которое испытываешь, слыша стрельбу со скоростью семь выстрелов в секунду. Из-за изрешеченной двери пули летели с почти человеческой яростью, неистовым стремлением человекоубийства, порождая какофонию уничтожения.
Пул кое-как перевалился в сторону от двери. Я потянулся в траву, где у моих ног лежал его дробовик, обхватил рукоятку, сунул свой пистолет в кобуру и, опираясь на одно колено, привстал, навел сквозь дождь на дверь и выстрелил. Древесина отрыгнула дым. Когда он рассеялся, передо мной в середине двери зияла дыра размером с крупный кулак. Я поднялся было с колена, но поскользнулся на мокрой траве и услышал, как слева от меня звякнуло стекло.
Я повернулся и выстрелил в окно. Картечь прошла поверх перил, разнесла стекла и раму и пробила дыру в темной шторе.
В доме кто-то вскрикнул.
Стрельба прекратилась, но в голове у меня по-прежнему отдавалось эхо выстрелов из дробовика и стрекотание автоматического оружия.
Энджи, сморщившись, стояла на коленях возле ступенек крыльца, целясь в сторону двери.
— Ты цела? — спросил я.
— Лодыжке полная ж…
— Ранена?
Не сводя глаз с двери, она покачала головой.
— Хрустнула, кажется, когда толкнул меня. — Она поджала губы и сделала сквозь них долгий вдох.
— Хрустнула, как при переломе?
Она кивнула и снова втянула в себя воздух.
Пул застонал, из угла рта яркой струйкой бежала кровь.
— Надо стащить его с крыльца, — сказал я.
— Я прикрою, — кивнула Энджи.
Я положил дробовик на мокрую траву, потянулся, ухватился за верхнюю часть стойки перил, которую Пул сломал, падая, поставил ногу на фундамент крыльца и потянул вниз. Стойка поддалась, отрываясь от прогнившей древесины. Я еще раз сильно потянул и оторвал ее вместе с обломком поручней. Пул повалился на меня, и мы оба упали в мокрую траву.
Он застонал и изогнулся в моих объятиях. Я выбрался из-под него и тут заметил шевеление шторы в правом окне.
— Энджи, — крикнул я, но она и сама заметила, уже повернулась в сторону окна и выстрелила в него трижды. Стекла вылетели из рамы и дождем посыпались на крыльцо.
Я сжался за низенькими кустами у фундамента, но ответного огня не было. Над травой выгнулась грудь Пула, изо рта у него пузырясь шла кровь.
Энджи опустила пистолет, долго смотрела на дверь и окна, потом на коленях, стараясь не задевать землю левой вывернутой стопой, добралась к нам через дорожку. Я достал пистолет и был готов стрелять в сторону дома. Энджи доползла до нас и легла рядом с Пулом.
Из-за дома опять послышалась стрельба из автоматического оружия.
— Бруссард. — Пул выплюнул это слово, схватил Энджи за руку, и его пятки заерзали по траве.
Энджи посмотрела на меня.
— Бруссард, — повторил Пул, в горле у него забулькало, и грудь опять выпятилась из травы.
Энджи стянула с себя водолазку и приложила к ране посреди груди Пула, из которой темным ключом била кровь.
— Ш-ш-ш. — Она приложила руку к его щеке. — Ш-ш-ш.
Стрелявший за домом, судя по всему, имел огромную обойму — стаккато растянулось на полных двадцать секунд. Последовала недолгая пауза, и стрельба возобновилась. Я не знал, «каликоу» это или какое-то другое автоматическое оружие, но не имело особого значения. Пулемет есть пулемет.
Я на секунду закрыл глаза и сглотнул, почувствовав боль в пересохшем горле. В крови бушевал адреналин.
— Патрик, — сказала Энджи, — не смей, твою мать, даже думать об этом.
Я знал, что, если сейчас обернусь к ней, с этой лужайки мне уже не уйти. Где-то за домом Бруссарду в лучшем случае не давали головы поднять. Там мог быть Сэмюэл Пьетро, и пули, возможно, гудели вокруг него, как шершни.
— Патрик! — закричала Энджи, но я уже перелетел через три ступеньки и стал в ложбинке посередине крыльца.
Дверную ручку в форме шара выбили в самом начале. Я распахнул остатки двери ногой; держа дуло пистолета горизонтально на уровне груди, выстрелил в темное помещение, повернулся направо, потом налево, расстрелял всю обойму, выбросил ее из рукоятки, и, не успела она упасть на пол, вставил новую. В помещении за дверью никого не было.
— Нужна немедленно помощь, — кричала Энджи в сотовый телефон у меня за спиной. — Полицейский ранен! Полицейский ранен!
Внутри дома все было темно-серым, как небо снаружи. По полу тянулся кровавый след. На другом конце коридора сквозь отверстия пуль в двери черного хода сочился свет. Сама дверь стояла косо, держась у косяка только на верхней петле.
Примерно на полдороге к ней кровавый след сворачивал направо, в кухню, ее дверь была закрыта. Я зашел в другую комнату, жилую, осмотрел в ней тени, заметил осколки стекла под окнами, обломки рам, обрывки штор, вырванные пулями, и старый диван, из которого лезли внутренности и на котором валялись банки из-под пива.
Огонь из автоматического оружия прекратился, еще как только я вошел в дом, и теперь слышался лишь шум дождя на крыльце, тиканье часов где-то в доме и мое собственное дыхание, поверхностное и неровное.
Под скрип дощатого пола я пошел из комнаты. Пот капал с лица, кожа рук от него совсем размокла, взгляд метался от двери в конце коридора к четырем другим, находившимся ближе ко мне. Одна, в трех метрах справа от меня, вела в кухню. Из другой на пол коридора падала дорожка желтого света.
Прижимаясь к стене справа, я осторожно двинулся вперед и через некоторое время смог заглянуть в комнату по левую руку от меня. Видно в ней было не все. Оказалось, что это своего рода гостиная. По обе стороны от встроенного в середину стены шкафчика стояло по стулу с регулируемым наклоном спинки. Один из них мне удалось различить в полутьме накануне вечером. Стеклянные дверцы, обычные в таких шкафах, отсутствовали, на полках, как и на полу возле стульев, лежали сложенные в стопки газеты и глянцевые журналы. У подлокотников кожаных кресел стояли две старомодные оловянные пепельницы на трехногих подставках, в одной из них лежала, тлея, наполовину выкуренная сигара. Я стоял, прижавшись к стене, направив пистолет в правую часть комнаты и следя за тем, не пошевелится ли где-нибудь тень, прислушиваясь, не скрипнет ли половица.
Ничего.
Осторожно ступая, я сделал два коротких шага в сторону коридора, припал к другой стене и направил дуло пистолета в сторону кухни.
Там на полу в черно-белую клетку влажно поблескивала кровь и желто-красные сгустки человеческих внутренностей. Полки для посуды и холодильник были захватаны окровавленными руками, их следы казались ярко-оранжевыми в ослепляющем свете флуоресцентной лампы. В правой части кухни пошевелилась тень, и послышалось прерывистое дыхание, но не мое.
Я сделал долгий, глубокий вдох, сосчитал от трех до одного, метнулся от одной притолоки кухонной двери к другой и успел заметить, что комната для чтения справа от меня пуста, и дуло моего пистолета оказалось направлено на Леона Третта, который, не спуская с меня глаз, сидел на кухонной стойке.
В дверях кухни лежал один из «Каликоу М-110». Войдя, я оттолкнул его ногой под стол направо от себя.
Леон наблюдал за мной с гримасой боли. Он побрился, и его дряблая отвратительная кожа как-то неестественно поблескивала розовым, как будто ее потерли проволочной щеткой и потом смазали маслом. Казалось, ее можно зачерпнуть с помощью ложки. Без бороды лицо у него было более вытянутым, чем накануне вечером, а щеки такими ввалившимися, что рот постоянно имел овальную форму.
Левая его рука беспомощно висела, из раны в бицепсе толчками вытекала темная кровь. Правая рука лежала на животе, ею он пытался удерживать в нем внутренности. Коричневые брюки были залиты кровью.
— Магазины мои принес? — спросил он.
Я покачал головой.
— А я сам этим утром достал.
Я пожал плечами.
— Ты кто? — тихо спросил он и приподнял правую бровь.
— На пол, мордой вниз! — скомандовал я.
Он недовольно закряхтел.
— Милок, ты ж видишь, я кишочки свои придерживаю. Как, по-твоему, я смогу двигаться и удерживать их на месте.
— Не моя беда, — сказал я. — Лечь на пол!
Он сжал челюсти.
— Нет.
— Лечь на пол, твою мать.
— Нет, — повторил он.
— Леон, делай, что говорят.
— Да пошел ты. Застрели меня.
— Леон.
Он стрельнул глазами налево и разжал челюсти.
— Прояви милосердие, милок. Будь человеком.
Глаза у него забегали, на губах показалось что-то вроде улыбки, и я упал на колени, как раз в тот момент, когда Роберта Третт стала стрелять туда, где только что был я, и очередью из «М-110» снесла голову своему супругу.
Его лицо исчезло, как воздушный шарик, который ткнули булавкой. Роберта вскрикнула от удивления и ужаса, а я перекатился на спину и несколько раз выстрелил. Пули попали ей в бедро и отбросили в угол кухни.
Она обернулась ко мне, копна седых волос закрыла ей лицо, и, к несчастью, «М-110» все еще оставался у нее в руке. Потный указательный палец собирался нащупать спусковой крючок, медленно сползая с защитной скобы, свободной рукой она схватилась за рану на бедре, не сводя глаз с того места, где только что была голова ее мужа. Дуло «М-110» стало разворачиваться в мою сторону, я понимал, что в любую секунду она может прийти в себя и нажать на спуск.
Я рыбкой вылетел из кухни в коридор и откатился вправо, Роберта Трет повернулась, и дуло «каликоу» оказалось направленным на меня. Я вскочил на ноги и бросился к задней двери. Она становилась все ближе и ближе, и в какой-то момент я услышал у себя за спиной шаги Роберты.
— Убил моего Леона, урод. Моего Леона убил!
Роберта наконец попала пальцем на спусковой крючок, и коридор потонул в грохоте, каким сопровождается извержение вулкана.
Я не глядя рыбкой нырнул в комнату, находившуюся слева от меня, и слишком поздно обнаружил, что это вовсе не комната, а лестница. Я угодил лбом в седьмую или восьмую ступеньку. Столкновение кости с деревом отозвалось в зубах, как удар током высокого напряжения. В коридоре все ближе к лестнице слышалась тяжелая поступь Роберты.
Она просто держала пистолет в руке, и это наводило на меня еще больший ужас, чем если бы стреляла.
Роберта понимала, что загнала меня в ловушку.
Я бросился вверх по лестнице, задел голенью за край ступени, в глазах потемнело от боли, поскользнулся, но удержался на ногах, увидел железную дверь наверху и стал молиться, Господи, пожалуйста, Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы она оказалась не заперта.
Роберта уже поднималась по лестнице. Я добежал до железной двери, толкнул ее, и она подалась. У меня вырвался вздох облегчения.
Роберта выпустила очередь, я бросился на пол, и грудная клетка отскочила от него, как мяч. Я откатился влево и захлопнул ногой дверь, отгородившись ею от шквала пуль, которые застучали по металлу, как град по кровельной жести. Дверь была тяжелая и толстая, такие бывают в промышленных холодильниках или бомбоубежищах, с моей стороны на ней было несколько засовов: четыре располагались на высоте примерно метр семьдесят и имели длину по пятнадцать сантиметров. Я задвигал их один за другим, пули со звоном колотили в дверь с другой стороны и отскакивали. Сама дверь была пуленепробиваемая. Засовы, защищенные листом прокатной стали, прострелить было невозможно.
— Убил моего Леона!
Перестав стрелять, Роберта завыла по ту сторону двери, и в этом безумном вое слышалась такая горечь потери, чудовищное одиночество и бессильная ярость, что в груди у меня защемило.
— Убил моего Леона! Убил его! Ты умрешь, умрешь, твою мать!
В дверь ударило что-то тяжелое. После второго удара я понял, что это сама Роберта Третт, используя свое невероятных размеров тело как таран, снова и снова бросается на дверь, завывая, визжа и призывая своего супруга, и бабах, бабах, бабах, круша единственную преграду, отделяющую ее от меня.
Даже если бы она выронила пистолет, а мой оставался бы при мне, прорвавшись в дверь, она бы разорвала меня на части голыми руками, независимо от того, сколько пуль я в нее выпущу.
— Леон! Леон!
Я прислушался, не слышно ли внизу сирен и человеческого голоса, усиленного мегафоном, не пищат ли уоки-токи. Полиция уже должна была прибыть к дому. Наверняка.
Оказалось, что я не слышу ничего, кроме Роберты, и только потому, что она находится совсем рядом по другую сторону двери.
Комнату, где я находился, освещала единственная свисавшая с потолка голая лампочка ватт в сорок. Я осмотрелся, и мне стало страшно.
Эта большая спальня окнами выходила на дорогу. Закрывавшие их толстые доски крепились к специальным рамам, и из каждого окна в комнату тусклыми серебряными глазками смотрело по сорок-пятьдесят оцинкованных головок шурупов.
На голом полу, усыпанном мышиным пометом, валялись пакетики картофельных хлопьев и всевозможных чипсов, там и сям пестрели масляные пятна вокруг втоптанных в доски крошек. Вдоль стен лежали три голых матраса, загаженные испражнениями, кровью и бог знает чем еще. Сами стены были покрыты кусками какого-то толстого серого пористого материала и пенопласта, звукоизолирующего материала, которым отделывают студии звукозаписи. Только здесь размещалась вовсе не студия.
Над матрасами к стенам гвоздями крепились вертикальные железные полоски с приваренными к ним внизу металлическими кольцами, от которых отходили цепи с наручниками. В западном углу комнаты в небольшой металлической корзине для бумаг стояли кнуты, хлысты, лежали фаллоимитаторы с шипами и кожаные ремни. В комнате пахло грязным человеческим телом, этот запах проникал в сердце и отравлял мозг.
Роберта перестала таранить дверь, но с лестницы все еще доносились ее приглушенные стенания.
Я прошел в восточную часть комнаты. Здесь был след стены, которую снесли, чтобы расширить спальню. На месте ее основания все еще сохранялся гребень из пыльной штукатурки. Мимо шмыгнула жирная мышь с шерсткой, слипшейся в торчащие шипики, и, повернув направо в восточном конце комнаты, скрылась за углом в нише.
Держа пистолет направленным перед собой, я осторожно пошел по комнате, переступая через пакетики с чипсами, информационные листки СААЛМИМ[45] и пустые банки из-под пива, вокруг отверстий которых росла плесень. Кое-где валялись раскрытые журналы, напечатанные на самой дешевой глянцевой бумаге: мальчики, девочки, взрослые, даже животные занимались на иллюстрациях чем-то, что, я точно знал, было не сексом, хотя могло им показаться. Не успел я отвернуться, эти фотографии прожгли себе путь в сознание. Запечатленное на них имело мало общего с нормальным человеческим соитием.
Я дошел до угла, за которым скрылась мышь. За ним находилась небольшая, выкрашенная голубым дверца, которая вела в чердачное помещение, заключенное между стеной комнаты и скатом крыши.
Перед ней, ссутулившись, стоял Корвин Орл, держа перед лицом арбалет и упираясь его прикладом себе в плечо. Он пытался целиться, но все время моргал — пот заливал ему глаза. Косой правый глаз очень хотел посмотреть на меня, он снова и снова скачком обращался в мою сторону, но всякий раз, будто влекомый непреодолимой силой, уплывал направо. Наконец Корвин закрыл его и поудобней пристроил приклад к плечу. Он был гол, на груди алело кровавое пятно, выпученный живот тоже перепачкан размазанной кровью, на лице — осознание поражения, смятение, усталая обреченность.
— Не доверяют тебе Третты автоматическое оружие, а, Корвин?
Он чуть покачал головой.
— Где Сэмюэл Пьетро? — спросил я.
Он опять покачал головой, на этот раз медленнее, и пошевелил плечами: арбалет для него был явно тяжеловат.
Я посмотрел на слегка дрожавший кончик стрелы. По мышцам внутренней стороны руки, державшей арбалет, временами пробегала дрожь.
— Где Сэмюэл Пьетро? — повторил я.
Он снова покачал головой, и я выстрелил ему в живот.
Он не издал ни звука: просто согнулся, выронил арбалет, упал сначала на колени, потом на правый бок, скрючился в позе зародыша и замер, вывалив, как собака, изо рта язык.
Я перешагнул через него, открыл голубую дверцу и оказался в ванной комнате размером с небольшой шкаф с закрытым досками черным оконцем. Под раковиной лежала драная занавеска для душа. Плитка на полу, унитаз и стены забрызганы кровью, как будто ею плеснули из ведра.
В раковине лежало залитое кровью хлопчатобумажное детское нижнее белье.
Я взглянул в ванну.
Не знаю, как долго я стоял там, нагнув голову и раскрыв рот, чувствуя, как по щекам струится что-то теплое. Прошла одна бесконечность времени и другая, а я все смотрел на маленькое голое тело, свернувшееся в ванне возле стока, и только тогда понял, что плачу.
Я вышел из ванной и оказался за спиной у Корвина Орла. Он пробовал ползти по полу на коленях, обхватив руками живот.
Я стоял над ним и ждал. Дуло пистолета было направлено вниз, черная мушка касалась его темных волос.
Он сосредоточенно пыхтел, совсем как ручной электрогенератор. Он добрался до арбалета и положил руку на приклад.
— Корвин, — позвал я.
Он взглянул на меня через плечо снизу вверх, увидел нацеленный на голову пистолет, крепко зажмурился и отвернулся, крепко стиснув окровавленной рукой арбалет.
Я выстрелил ему в затылок и пошел по комнате. Звенела катящаяся по полу гильза, потом послышался глухой удар упавшего тела. Оказавшись в спальне, я свернул налево, подошел к железной двери и один за другим открыл засовы.
— Роберта, — сказал я. — Ты еще тут? Ты меня слышишь? Сейчас я убью тебя, Роберта.
Я открыл последний засов и распахнул дверь. Прямо мне в лицо смотрело дуло дробовика.
Реми Бруссард опустил ствол. У него под ногами на ступенях лицом вниз лежала Роберта Третт с овальным темно-красным пятном размером с тарелку посередине спины.
Бруссард ухватился за перила лестницы. Пот, как теплый дождь, катился у него по лбу.
— Пришлось взорвать замок на пристройке. Прошел через подвал, — сказал он. — Прости, что так поздно.
Я кивнул.
— Там чисто? — Он глубоко вздохнул и внимательно посмотрел на меня своими темными глазами.
— Да. — Я прочистил горло. — Корвин Орл мертв.
— Сэмюэл Пьетро, — сказал он.
Я кивнул.
— Да, — сказал я. — По-моему, это Сэмюэл Пьетро. — Я посмотрел вниз на свой пистолет. Он дергался у меня в руке. Дрожь волнами пробегала по всему телу. Я посмотрел на Бруссарда и почувствовал, как теплые ручейки снова потекли у меня из глаз.
— Трудно, — успел проговорить я, и судорога перехватила мне горло, — сказать.
Бруссард кивнул. Я заметил, что он тоже плачет.
— В подвале, — сказал он.
— Что?
— Скелеты, — сказал он. — Два. Детские.
— Не знаю, как на это реагировать, — сказал я каким-то не своим голосом.
— Я тоже, — сказал он, посмотрел на труп Роберты Третт, приставил дробовик к ее затылку и положил палец на спуск.
Я думал, он разнесет ее безжизненные мозги по всей лестнице.
Немного погодя он поднял ствол, вздохнул, поднял ногу, поставил ступню аккуратно ей на макушку и толкнул тело вниз по лестнице.
Так нас и застали полицейские Квинси: им навстречу съезжал по ступенькам лестницы огромный труп Роберты Третт, а двое мужчин, стоя наверху, рыдали как дети. Почему-то ни тот ни другой не допускал, что мир, в котором мы живем, может быть настолько плох.
Потребовалось двадцать часов, чтобы установить, что обнаруженное в ванне тело — Сэмюэл Пьетро. Третты и Корвин Орл так поработали ножом над его лицом, что единственным надежным способом идентифицировать труп оказались стоматологические данные. Один из журналистов «Новостей», видимо получив наводку, позвонил Гэбриел Пьетро до того, как с ней связалась полиция, и попросил сделать заявление по поводу смерти сына. Женщине стало плохо.
К моменту обнаружения Сэмюэл Пьетро был мертв уже сорок пять минут. Медицинская экспертиза установила, что со времени похищения его многократно насиловали, хлестали по спине, ягодицам и ногам, наручники надевали так, что мягкие ткани вокруг запястий были истерты до костей. Кормили только картофельными чипсами и «фритос», пить давали пиво.
Меньше чем за час до нашего появления в доме Треттов либо Корвин Орл, либо кто-то из Треттов, либо они оба, либо все трое — теперь это уже, черт возьми, не узнать, да и какая, в сущности, разница? — закололи мальчика ножом в сердце, а потом перерезали горло.
Утро и большую часть дня я провел в нашем тесном офисе, расположенном в колокольне церкви Святого Варфоломея, чувствуя на себе тяжесть окружающего здания, шпиль которого тянется к небесам. Я смотрел в окно. Пытался думать. Пил холодный кофе и сидел, чувствуя тихое тиканье у себя в груди, в голове.
Лодыжке Энджи накануне вечером придали правильное положение и зафиксировали гипсом в отделении экстренной помощи Медицинского центра Новой Англии. Утром я еще только просыпался, а она взяла такси и поехала к своему врачу, чтобы показать, как наложили гипс, и узнать, чего ждать после его снятия.
Я зашел в церковь, сел в полумраке, пахнущем ладаном и хризантемами, на переднюю скамью, встретил пристальный взгляд нескольких святых, смотревших на меня из витражей глазами, формой напоминавшими драгоценные камни, посмотрел на огоньки свечек, мерцавших за алтарным ограждением из красного дерева. Я думал: зачем надо было ребенку в восемь лет испытать на себе все самое ужасное, что только есть в этой жизни?
Я поднял взгляд на Иисуса, державшего раскрытые ладони над золотой скинией.
— В восемь лет, — прошептал я. — Объясни зачем?
Я не могу.
Не можешь или не объяснишь?
Нет ответа. С лучшими из них Господь может помолчать.
Ты позволяешь явиться в этот мир ребенку, даешь ему восемь лет жизни. Позволяешь, чтобы его похитили, две недели, триста тридцать часов, девятнадцать тысяч восемьсот долгих минут пытали, морили голодом, насиловали. И затем последнее, что он видит, — лица чудовищ, которые пронзают сталью ему сердце, срезают с лица плоть и перерезают горло в ванне. К чему все это?
— К чему ты все это устроил? — громко спросил я. Гулкое эхо отразилось от каменных стен.
Тишина.
— Зачем? — прошептал я.
Опять тишина.
— Нет ответа, будь он проклят. Так, что ль?
Не богохульствуй. Ты в церкви.
Теперь я знал, что голос, говорящий у меня в голове, принадлежит не Богу, а, может быть, моей маме или какой-нибудь покойной монахине, но что-то мне с трудом верилось, чтобы Господь Бог вникал в технические подробности бытия, когда мы все так в этом нуждаемся.
Но опять-таки, откуда мне знать? Может быть, если он все-таки существует, то так же мелочен и ничтожен, как и все мы.
Если так, то это вовсе не тот Бог, за которым я бы мог последовать.
И все же я сидел на скамье, не в силах уйти.
Я верю в Бога потому… потому что что?
Доказательством существования Бога мне всегда казался талант — то, с чем родились Ван Гог, Майкл Джордан, Стивен Хокинг, Дилан Томас. И любовь.
Ну, хорошо, я в тебя верю. Но не уверен, что ты мне нравишься.
Это — дело твое.
— Что хорошего в том, что ребенка насилуют и убивают?
Не задавай таких вопросов. Твой разум слишком мал, чтобы понять мой ответ.
Я понаблюдал за мерцанием свечей, вдыхая вместе с воздухом растворенное в нем умиротворение, закрыл глаза и стал ждать выхода своего духа за пределы бренной оболочки, или снисхождения благодати, или покоя, или чего там, черт возьми, как учили монахини, следует ждать, когда окружающий мир становится невмоготу.
Примерно через минуту я открыл глаза. Видимо, сказалось то, почему не быть мне хорошим католиком, — не хватает терпения.
Задняя дверь церкви отворилась, послышался стук дерева о дерево, и знакомый голос произнес:
— Вот черт!
Потом дверь закрылась, и на площадке между церковью и лестницей, ведущей на колокольню, появилась Энджи. Она уже собралась подниматься в офис, но, увидев меня, улыбнулась и неуклюже развернулась на костылях.
Спустившись на две покрытые ковром ступеньки, Энджи проковыляла мимо кабинок для исповеди и купели для крещения, перед скамьей, на которой сидел я, остановилась, уселась на алтарное ограждение и прислонила к нему костыли.
— Привет.
— Привет, — ответил я.
Она посмотрела на потолочную роспись, изображающую Тайную вечерю, потом снова на меня.
— Ты — в церкви, и она все еще стоит?
— Представь себе, — сказал я.
Мы посидели некоторое время молча. Энджи, запрокинув голову, рассматривала потолок и какую-то штуку, врезанную в лепнину над ближайшим пилястром.
— Какой приговор вынесли ноге?
— Врач говорит, трещина под воздействием нагрузки в дистальной части левой малоберцовой.
Я улыбнулся.
— Приятно повторить такие слова, да?
— Дистальная часть левой малоберцовой? — Она широко улыбнулась. — Точно. Сразу чувствуешь себя как в амбулатории «Скорой помощи». Следующий раз попрошу их сделать биохимию крови и померить артериальное давление. Срочно.
— Тебе, наверное, некоторое время двигаться нельзя.
Она пожала плечами:
— Да. Но они так всегда говорят.
— Надолго этот гипс?
— На три недели.
— Никакой аэробики.
Она снова пожала плечами:
— Много чего нельзя.
Я некоторое время созерцал свои ботинки, потом снова посмотрел на нее.
— Что? — сказала она.
— Душа болит. Сэмюэл Пьетро. Не могу не думать о нем. Когда мы с Буббой заезжали, он был еще жив, наверху и… мы…
— Вы находились в доме с тремя хорошо вооруженными параноиками-уголовниками и не могли…
— Его тело, — сказал я, — оно…
— Уже установили, что это его?
Я кивнул.
— Такое маленькое. Такое маленькое, — прошептал я. — Голое, нарезанное на… Господи, Господи, Господи. — Я смахнул кислые слезы и запрокинул голову.
— С кем бы тебе хотелось поговорить? — участливо спросила Энджи.
— С Бруссардом.
— Как он?
— Примерно так же, как я.
— А Пул? Что-нибудь говорят? — Она наклонилась немного вперед.
— Плохо, Энджи. Говорят, не выкарабкается.
Она кивнула, опустила голову и так сидела некоторое время, слегка покачивая здоровой ногой.
— Что было в ванной, Патрик? То есть что именно ты там видел?
Я покачал головой.
— Давай, — сказала она тихо. — Это же я. Я смогу это выслушать.
— Не могу, — сказал я. — Только не это. Стоит подумать — все так и встает перед глазами — и умереть хочется. Не хочу носить в себе эту память. Хочется умереть, чтобы от нее избавиться.
Энджи осторожно соскользнула с ограждения алтаря, ухватилась за сиденье скамьи, подтянула к ней все тело и развернулась. Я подвинулся, она села рядом со мной, обхватила мое лицо ладонями, но я не мог посмотреть ей в глаза. Мне казалось, что от излучаемых ее руками тепла и любви на душе станет только тяжелее, она не только не обретет равновесие, но еще хуже станет. Энджи поцеловала меня в лоб, в веки и в слезы, высыхавшие на лице, положила мою голову себе на плечо и поцеловала в шею.
— Не знаю, что сказать, — прошептала она.
— Нечего говорить. — Я прочистил горло, обхватил ее за живот и поясницу. Под руками я чувствовал биение ее сердца. Так хорошо было держать ее в объятиях, казалось, в ней сосредоточено все то, что только есть правильного в мире. И все равно у меня было такое чувство, будто я умираю.
Ночью мы пробовали заняться любовью, и сначала все шло как будто хорошо, даже здорово, приходилось приноравливаться к тяжелому гипсу, Энджи хихикала, видимо, так действовали обезболивающие, но, когда мы оба оказались раздетыми, и в свете луны, смотревшей в окно спальни, мелькнуло ее тело, у меня перед глазами сразу встал образ Сэмюэла Пьетро. Я прикасался к ее груди и видел вымазанный кровью выпяченный живот Корвина Орла; проводил языком по ребрам и видел ванную комнату с залитой кровью стеной, как будто ею плеснули из ведра.
Пока я стоял тогда над ванной, со мной что-то случилось. Я видел все, и от этого заплакал, но часть сознания в результате срабатывания какого-то защитного механизма все-таки оказалась заблокирована так, что весь ужас картины, бывшей тогда у меня перед глазами, остался осознанным не до конца. Она, эта картина, была ужасна, кровава, избыточна — я это понимал, — но запечатленные в памяти изображения оставались разрозненными, плавающими в море белого фаянса и черно-белой плитки.
За прошедшие с тех пор тридцать часов сознание собрало все воедино, и я оказался наедине с этой ванной, в которой лежало нагое, изуродованное, оскверненное тело Сэмюэла Пьетро. Дверь в ванную была заперта, и я не мог из нее выйти.
— Ты что? — спросила Энджи.
Я отстранился от нее и посмотрел в окно на луну.
Теплая рука погладила мне спину.
— Патрик.
Крик замер у меня в горле.
— Ну же, Патрик. Поговори со мной.
Зазвонил телефон. Я взял трубку.
— Как себя чувствуешь? — спросил Бруссард.
Услышав его голос, я почувствовал облегчение, ощущение одиночества отступило.
— Спасибо, хреново. А ты?
— Так хреново, что дальше некуда. Ты, кажется, понимаешь, что я имею в виду.
— Понимаю, — сказал я.
— Даже жене не могу рассказать, а я ей всегда все рассказываю.
— Знакомая ситуация.
— Слушай… Патрик, я пока в городе. У меня тут бутылка. Не хочешь со мной выпить?
— Давай.
— Я буду в «Райан». Нормально?
— Нормально.
— Там и увидимся.
Он повесил трубку, а я повернулся к Энджи.
Она успела закрыться простыней и теперь тянулась к тумбочке за сигаретами. Поставив пепельницу себе на колени, Энджи закурила и задумчиво посмотрела сквозь дым на меня.
— Это Бруссард, — сказал я.
Она кивнула. Затянулась.
— Предлагает встретиться.
— С нами обоими? — Она взглянула на пепельницу.
— Только со мной.
Она кивнула:
— Тогда собирайся.
Я хотел придвинуться к ней:
— Энджи…
Она выставила руку:
— Извинений не требуется. Отправляйся. — Она оценивающе осмотрела мое голое тело и улыбнулась. — Только сначала надень что-нибудь.
Я собрал с пола разбросанные вещи, Энджи сквозь струйку дыма, поднимавшегося от сигареты, наблюдала, как я одеваюсь.
Я уже выходил из спальни, когда она, затушив сигарету, сказала:
— Патрик.
Я просунул голову между дверью и притолокой.
— Захочешь поговорить — я охотно выслушаю. Все, что захочешь сказать.
Я кивнул.
— А если не захочешь, дело твое. Понимаешь?
Я снова кивнул.
Энджи поставила пепельницу на тумбочку, и простыня соскользнула, открыв верхнюю часть туловища.
Мы оба долго молчали.
— Чтобы была ясность, — сказала наконец Энджи. — Я не хочу быть женой полицейского, какими их показывают в фильмах.
— Что ты имеешь в виду?
— Они там вечно пилят мужей и умоляют поговорить по душам.
— Я от тебя этого не жду.
— Они, как правило, не понимают, когда пора уходить. Я об этих женах.
Я вошел в комнату и пристально посмотрел на Энджи.
Она поправила подушки у себя под головой.
— Ты не мог бы, уходя, выключить свет?
Свет я выключил, но еще некоторое время постоял на месте, чувствуя на себе взгляд Энджи.
На игровой площадке «Райан» я встретил одного очень пьяного полицейского. Он качался на качелях, был без галстука, в перекошенном пиджаке, выбивающемся из-под заляпанного песком пальто, и с развязавшимся шнурком на одном ботинке. Только увидев Бруссарда в таком виде, я вдруг осознал, насколько безукоризненно он обычно выглядит. Даже после стрельбы у карьера и прыжка на опору полозьев вертолета он ухитрялся выглядеть безупречно.
— Ну, ты — Бонд, — сказал я.
— А?
— Джеймс Бонд, — сказал я. — Ты, Бруссард, — Джеймс Бонд. Само совершенство.
Он улыбнулся, допил то, что оставалось в бутылке рома «Маунт гей», бросил ее на песок, вытянул из кармана пальто полную, сломал на ней печать, открутил крышечку и щелчком большого пальца отправил ее вслед за пустой бутылкой.
— Тяжело, хе-хе, все время поддерживать такой внешний вид.
— Как там Пул?
Бруссард несколько раз покачал головой:
— Без перемен. Жив, но и только. В сознание не приходит.
Я сел на качели рядом с ним.
— А какой прогноз?
— Плохой. Даже если будет жить, за последние тридцать часов перенес несколько ударов, мозг недополучил тонну кислорода. Будет частично парализован, говорят, скорее всего, говорить не сможет. Так и останется прикованным к постели.
Я вспомнил первый день своего знакомства с Пулом, то, как в первый раз наблюдал ритуал обнюхивания сигареты с последующим ее разламыванием, то, как он посмотрел мне в смущенное лицо со своей улыбочкой эльфа и сказал: «Прошу прощения, я бросил». — И потом, когда Энджи спросила, не возражает ли он, чтобы она покурила: «О господи, разумеется».
Черт. До настоящего момента я даже не сознавал, насколько он мне нравится.
Не будет больше Пула. Не будет лукавых замечаний, сказанных с умным блеском в глазах.
— Мне очень жаль, Бруссард.
— Реми, — сказал он и протянул мне пластиковый стаканчик для коктейлей. — Еще неизвестно, чем дело обернется. Он из самых упорных ребят, какие мне только попадались. Воля к жизни бешеная. Может, и выкарабкается. Ну а ты как?
— А?
— Как у тебя дела с волей к жизни?
Я подождал, пока он налил мне полстакана рома.
— Бывала и покрепче, — сказал я.
— У меня тоже. Не могу я этого понять.
— Чего?
Он приподнял бутылку, мы молча чокнулись и выпили.
— Не понимаю, — сказал Бруссард, — почему эта история в том доме так меня задела. Я ведь много всяких гадостей перевидал, — он, сидя на качелях, подался вперед и посмотрел на меня через плечо. — Ужасных гадостей, Патрик. Видел младенцев, которых из бутылочек поили чистящим средством, они тряслись и задыхались до смерти, видел их избитыми до такой степени, что непонятно, какого цвета у них на самом деле кожа. — Он медленно покачал головой. — Много гадостей. Но в этом доме что-то такое…
— Критическая масса, — подсказал я.
— Как?
— Критическая масса, — повторил я и отхлебнул рома. Он шел пока нелегко, но дело уже было за малым. — Видишь одну кошмарную вещь, другую, но они разделены во времени. Вчера мы насмотрелись на всевозможные гадости сразу, и впечатления в совокупности превысили критическую массу.
Он кивнул.
— Никогда не видал ничего отвратительней этого подвала, — сказал он. — И потом, этот ребенок в ванне. — Он покачал головой. — Через несколько месяцев двадцать лет исполнится, как я на службе, и я никогда… — Бруссард снова отхлебнул, и его передернуло от крепкого рома. Он слегка мне улыбнулся. — Ты знаешь, чем занималась Роберта перед тем, как я ее застрелил?
Я покачал головой.
— Скреблась в дверь, как собака. Богом тебе клянусь. Скреблась и скулила по своему Леону. Я только выбрался из подвала. Там эти два детских скелета, засыпанные гравием и залитые известью, и весь этот дом, как из фильма ужасов… И тут вижу — Роберта на верху лестницы. Господи, я даже не стал смотреть, вооружена ли она. Просто разрядил в нее дробовик. — Он сплюнул на песок. — Да пошла она! Ад — слишком подходящее место для такой суки.
Некоторое время мы помолчали, слушая поскрипывание цепей, на которых были подвешены качели, шум машин, проезжающих по проспекту, стук клюшек и пререкания детей, игравших в уличный хоккей на автостоянке завода, производящего электронику, по другую сторону улицы.
— Скелеты, — сказал я через некоторое время.
— Чьи — неизвестно. Самое большее, что может сказать медицинский эксперт, — это что один — мальчика, другой — девочки. Возраст — от четырех до девяти лет. Через неделю, говорит, еще что-то выяснит.
— А по зубам идентифицировать не получится?
— Третты об этом позаботились. Оба скелета обнаруживают следы обработки соляной кислотой. Наш медэксперт считает, их мариновали в дерьме, от этого зубы расшатались, их тогда вырвали, а остальное в ящиках залили известью и оставили в подвале.
— А почему в подвале?
— Может, хотели иногда смотреть на них. — Бруссард пожал плечами. — Теперь уж ни хрена не узнаешь.
— Так один может быть Аманды Маккриди.
— Скорее всего. Либо так, либо она в карьере.
Я подумал о подвале. Аманда Маккриди и ее невыразительные глаза, ее равнодушие ко всему тому, что вызывает бурные эмоции у других детей, ее безжизненное тело в ванне с кислотой, волосы, облезающие с кожи головы, как с папье-маше.
— Жуткий мир, — прошептал Бруссард.
— Кошмарный, мать его, Реми. Понимаешь?
— Два дня назад я бы еще стал с этим спорить. Я полицейский, ладно, но мне еще и везет. У меня прекрасная жена, хороший дом, все эти годы я удачно вкладывал деньги. Скоро все это дерьмо останется позади, вот отслужу двадцать лет, и прозвенит пробуждающий звоночек. — Он пожал плечами. — И тут попадается что-то вроде — господи! — этого искромсанного ребенка в этой гребаной ванне, и начинаешь думать: «Так, хорошо, у меня жизнь идет нормально, но мир-то, в котором мы живем, для большинства людей — просто куча дерьма. Даже если у меня все нормально, мир-то все равно куча дерьма». Понимаешь?
— О, — сказал я. — Понимаю. Отлично понимаю.
— Все есть, но ничего не работает.
— Как это?
— Ничего не работает, — повторил он. — Не понимаешь? Автомобили, стиральные машины, холодильники, первое жилье, гребаная одежда и обувь и… ничего не работает. Школы не работают.
— Государственные — да, — сказал я.
— О государственных нечего и говорить. Ты посмотри на идиотов, которых сейчас выпускают частные. Приходилось тебе когда-нибудь разговаривать с недовольными придурками из частных школ? Спрашиваешь такого: что такое нравственность? Отвечает: понятие. Спрашиваешь: что такое приличия? Отвечает: слово. Взгляни на детей толстосумов, убивающих в Центральном парке алкашей за то, что те не могут заплатить за наркотики, или просто так. Школы не работают, потому что родители не работают, потому что их родители не работали, потому что ничто не работает, так зачем тратить энергию и любовь или вообще что-нибудь, если от этого одно только разочарование? Господи, Патрик, мы не работаем. Этот ребенок пробыл у них две недели, и никто не мог его найти. Он находился в том доме, мы подозревали это за несколько часов до того, как его убили, мы сидели в пончиковой и говорили об этом. Ему горло перерезали в тот момент, когда мы бы должны были дверь ногами вышибать.
— Мы — самое богатое, самое продвинутое общество в истории цивилизации, — сказал я, — и не можем уберечь ребенка от того, чтобы три урода его всего изрезали в ванне. Почему?
— Не знаю. — Он покачал головой и ударил по песку носком ботинка. — Просто не знаю. Всякий раз, как тебе приходит в голову какое-то решение, находится целая компания тех, кто говорит тебе, что ты не прав. Ты веришь в целесообразность смертной казни?
Я протянул ему пустой стаканчик.
— Нет.
Он стал наливать, но остановился.
— Прости, как ты сказал?
Я пожал плечами:
— Не верю. Уж извини. Ты наливай.
Он долил и приложился к горлышку бутылки.
— Сам укокошил Корвина Орла выстрелом в затылок и не веришь в целесообразность смертной казни?
— Мне кажется, у общества нет на это права, и оно не всегда располагает необходимыми сведениями. Пусть оно мне сначала докажет, что в состоянии эффективно строить дороги, тогда я позволю ему решать, кому жить, кому умирать.
— И все же: ты вчера казнил человека.
— Если подходить формально, он касался рукой оружия. И кроме того, я ведь — не общество.
— Какое это на хрен имеет значение?
Я пожал плечами:
— Себе я доверяю. Мои действия позволяют мне жить. А обществу не доверяю.
— Потому ты и частный детектив, Патрик. Одинокий рыцарь и все такое.
Я покачал головой:
— Да плюнь ты на это.
Он снова засмеялся.
— Я частный детектив, потому что, может, у меня зависимость от великого Что Будет Дальше. Может, я хочу знать, как все обстоит на самом деле без прикрас. Это не делает меня хорошим парнем, но я ненавижу, когда что-то скрывают и притворяются не тем, что есть на самом деле.
Он поднял бутылку, и я своим стаканчиком ткнул ей в бок.
— Что, если кто-то притворяется кем-то, потому что общество считает, что так надо, а на самом деле он — кто-то совсем другой, потому что сам считает, что так надо?
Я выпил и покрутил головой.
— Слушай, повтори, пожалуйста. — Я встал и почувствовал, как плохо держусь на ногах. Потом подошел к детской лесенке напротив качелей и уселся на верхней ступеньке.
— Если общество не работает, то как же живем в нем мы, предположительно честные люди?
— На грани, — сказал я.
Он кивнул:
— Вот именно. И все же мы должны жить с таким обществом, иначе мы что?.. Гребаное народное ополчение, ребята в камуфляжных штанах, которые сволочатся насчет налогов, а сами разъезжают по дорогам, построенным правительством, так?
— Наверное.
Он встал, покачнулся, ухватился за цепь, на которой было подвешено сиденье и, вися на ней, отклонился в темноту за качелями.
— Я однажды одному парню улику подкинул.
— Как-как?
Вися на цепи, он снова выплыл на освещенное место.
— Правда. Мерзавца звали Карлтон Волк. Насиловал шлюх месяцами. Месяц за месяцем. Один-два сводника пыталась его остановить, но он их завалил. Карлтон был псих, черный пояс, тип из тюремной качалки. Разговаривать с таким человеком бесполезно. И вот звонит мне наш общий друг Рей Ликански и посвящает во все детали. Скелет Рей, я так полагаю, сам запал на одну из этих шлюх. Как бы то ни было. В общем, я знаю, что Карлтон Волк насилует шлюх, но кто даст против него показания? Даже если бы девчонки захотели свидетельствовать против него, а они не хотели, кто же им поверит? Шлюха, которая жалуется на изнасилование, с точки зрения большинства людей — просто шутит. Это все равно что труп на тот свет отправить. Это, по общему мнению, просто невозможно. Итак, я знаю, что Карлтон, уже отбывший два срока, выходит на свободу, но остается под надзором. Подкидываю ему в багажник унцию героина и две пушки, разрешения на них ни у кого не было. Запятил все это под запаску, туда, где он никогда бы не нашел. Прилепил наклейку инспектора с истекшим сроком на номерной знак, поверх годной. Кто смотрит на свои номера, пока не пора продлевать срок действия лицензии? — Он снова, откачнувшись, ненадолго скрылся в темноте. — Через две недели Карлтона останавливают из-за просроченной наклейки, точка зрения полиции понятна, и так далее, и тому подобное. Короче говоря, его сажают в третий раз на двадцать лет без права на условно-досрочное освобождение.
Я подождал, пока он снова выплывет на свет, и тогда сказал:
— Думаешь, правильно поступил?
Он пожал плечами:
— Для шлюх — да.
— Но…
— В подобных историях всегда бывает это «но», верно? — Он вздохнул. — Но такой парень, как Карлтон, и в тюрьме процветает. Наверное, теперь перетрахает больше молодых ребят, получивших сроки за кражи со взломом и мелкую торговлю наркотиками, чем изнасиловал бы шлюх. Принес ли пользу мой поступок людям вообще? Скорее всего, нет. Принес он пользу нескольким шлюхам, на которых всем наплевать? Может быть.
— Если б сложилась подобная ситуация, ты бы снова так поступил?
— Патрик, позволь тебя спросить: что бы ты сделал с таким типом, как Карлтон?
— Мы опять возвращаемся к вопросу целесообразности смертной казни, да?
— Вопрос к тебе лично, — сказал он, — общество тут ни при чем. Если б у меня хватило мужества прикончить Волка, никого бы больше не насиловали. Тут никаких полутонов. Только черное и белое.
— Но тогда этих ребят в тюрьме все равно насиловал бы кто-нибудь другой.
Он кивнул:
— Каждое решение имеет свои недостатки.
Я отхлебнул рома и заметил одинокую звезду, плывущую над редкими ночными облаками и городским смогом.
— Пока я стоял над этим детским телом, — сказал я, — что-то во мне оборвалось. Стало все равно, что будет со мной, с моей жизнью, со всем остальным. Хотелось только… — Я выставил вперед руки.
— Равновесия.
Я кивнул.
— Поэтому, пока этот гад стоял на коленях, ты ему вставил заглушку в затылок.
Я снова кивнул.
— Э, Патрик, я ведь не осуждаю тебя, старина. Я говорю: иногда мы делаем верные вещи, хотя такие дела в суде не выстоят. Общество, — он взял это слово в кавычки, показав их пальцами обеих рук, — такой поступок осудит.
Я снова услышал это тихое «юх-юх-юх» Корвина Орла, вспомнил кровавые брызги, разлетевшиеся от его затылка одновременно с выстрелом, глухой стук о пол упавшего тела и позвякивание катящейся гильзы.
— При таких обстоятельствах, — сказал я, — я бы сделал то же самое снова.
— Значит ли это, что ты поступил правильно? — Реми Бруссард неторопливо подошел к лесенке и налил мне в стаканчик еще рома.
— Нет.
— Но также и не значит, что поступил неправильно, так?
Я посмотрел на него, улыбнулся и покачал головой:
— Согласен.
Он привалился к лесенке и зевнул.
— Хорошо бы иметь ответы на все вопросы, правда?
Я посмотрел на подчеркнутые темнотой линии склоненного ко мне лица и почувствовал, как что-то дергается у меня в затылке, как крошечный рыболовный крючок. Что он такого сказал, что так меня укололо?
Я взглянул на Реми Бруссарда, и крючочек еще глубже впился в затылок. Я пристально посмотрел ему в глаза, и мне почему-то захотелось ударить его. Но я всего лишь сказал:
— Я рад.
— Чему?
— Что убил Корвина Орла.
— Я тоже рад, что убил Роберту. — Он налил мне в стаканчик еще. — Черт с ними, Патрик, я рад, что ни один из этих придурков не вышел живым из этого дома. Выпьем за это?
Я взглянул на бутылку, потом на Бруссарда и поискал в его лице то, что только что так внезапно укололо меня. Напугало. Я не мог найти причину в темноте, да еще спьяну, поэтому я поднял стаканчик и прикоснулся пластиком к бутылке.
— И да пребудут они в аду пожизненно и испытывают там мучения, причиненные своим жертвам, — сказал Бруссард, подняв и опустив брови. — Скажем «аминь», брат?
— Аминь, брат.
Я долго сидел в освещенной лунным светом спальне, смотрел на спящую Энджи, снова и снова воспроизводя в памяти наш разговор с Бруссардом и потягивая кофе из купленного по дороге домой большого стакана «Данкин Донатс». Энджи позвала во сне собаку, которая была у нее в детстве, и погладила ладонью подушку. Я улыбнулся.
Может, все это — душевная травма от перестрелки возле дома. А может, ром. Может, дело в том, что чем сильнее я стараюсь отгородиться от травмирующих впечатлений, тем легче зацикливаюсь на пустяках, мелочах, случайно оброненном слове или фразе, которая начинает без конца крутиться в голове. Как бы то ни было, сегодня на детской площадке я нашел истину и ложь. И то и другое одновременно.
Бруссард прав: ничто не работает.
И я тоже прав: фасады зданий, независимо от того, как хорошо они выстроены, рано или поздно рушатся. Тайное становится явным.
Энджи перевернулась на спину и сбросила простыню, закрутившуюся вокруг ступни. Видимо, движение ноги в гипсе потребовало усилий, потому что она проснулась, поморгала, подняла голову, посмотрела на загипсованную ногу, обернулась и увидела меня.
— Привет. Ты что тут… — Она села, почмокала губами и отбросила от глаз волосы. — Ты что тут делаешь?
— Сижу, — сказал я. — Думаю.
— Надрался?
Я приподнял стакан с кофе.
— Не так уж сильно, как видишь.
— Тогда ложись в постель. — Она протянула ко мне руку.
— Бруссард врал нам.
Она убрала руку и с ее помощью села поудобней, прислонившись к спинке кровати.
— Что?
— В прошлом году, — сказал я. — Когда Рей Ликански, помнишь в баре, отодвинул засов и исчез.
— И что?
— Бруссард говорил, что едва его знает. Что будто бы Рей один из осведомителей Пула. Время от времени будто бы стучит.
Энджи потянулась к тумбочке и включила свет.
— И что?
Я кивнул:
— Так… так, может, он в прошлом году оговорился. Может, мы его неправильно поняли.
Я посмотрел на нее. Через некоторое время она протянула руку к тумбочке и взяла сигареты.
— Ты прав. Еще не было такого, чтобы мы кого-то неправильно поняли.
— По крайней мере, чтобы неправильно поняли и ты, и я сразу.
Она закурила, натянула простыню на ногу и почесала под коленом у края гипсовой повязки.
— И зачем ему врать?
Я пожал плечами.
— Вот и я тоже сижу и думаю: зачем?
— Может, у него есть причины оберегать Рея как своего осведомителя?
Я глотнул кофе.
— Возможно, но до чего же удобно, а? Рей потенциально — ключевая фигура в деле об исчезновении Аманды Маккриди, а Бруссард врет, что едва его знает. Кажется…
— Подозрительно.
Я кивнул:
— Немного. И знаешь, еще что?
— Что?
— Бруссард скоро выходит в отставку.
— Когда?
— Точно не знаю. Мне показалось, очень скоро. Сказал, скоро двадцать лет, как он служит, и, как только двадцатилетие стукнет, сдаст значок.
Она затянулась и посмотрела на меня поверх тлеющего огонька сигареты.
— Ну, уходит на пенсию. И что?
— В прошлом году перед тем, как мы полезли на гору к карьеру, ты, помнишь, пошутила.
Она приложила руку к груди.
— Ну, пошутила.
— Si.[46] Сказала что-то типа «Может, и нам пора на пенсию».
Энджи просияла.
— Я сказала: «Может, пора и нам на покой?»
— А он что?
Она подалась вперед, положила локти на колени и задумалась.
— Он сказал… — Она несколько раз, сгибая и разгибая руку в локте, махнула сигаретой. — Он сказал, что не может себе позволить выйти на пенсию. Какие-то у него там медицинские счета надо оплачивать.
— Что-то такое с его женой вроде.
Она кивнула:
— Жена попала в аварию прямо перед свадьбой. А страховки не было. Он сильно задолжал больнице.
— И что стало с этими счетами? Думаешь, врачи сказали: «А, Бруссард, ты славный парень. Забудь о долгах»?
— Сомнительно.
— Чрезвычайно. Итак, один полицейский был беден и врал, будто плохо знает главное действующее лицо в деле Маккриди. Через полгода у него уже достаточно денег, чтобы уйти на пенсию. Ну, положим, не такие деньги, как после выслуги тридцати лет, но столько, сколько получает полицейский после двадцати лет службы.
Энджи с минуту подумала, покусывая нижнюю губу.
— Кинь мне футболку, будь добр.
Я открыл шкаф, достал из ящика зеленую с надписью «Показывался врачам» и отдал Энджи. Она натянула ее, отбросила ногами простыни и оглядела комнату в поисках костылей. Потом посмотрела на меня и заметила, что я тихонько хихикаю.
— Что?
— Ты такая смешная.
Она помрачнела.
— Это как?
— Сидишь в моей футболке с этой гипсовой дубиной на ноге. — Я пожал плечами. — Просто забавно, и все.
— Ха, — сказала она. — Ха-ха. Где мои костыли?
— За дверью.
— Ты не будешь так добр?..
Я принес костыли, Энджи с трудом поднялась, и я следом за ней прошел на кухню. Цифровое табло на микроволновой печке показывало 04:04, я чувствовал утро суставами и затылком, но на способности думать время не сказывалось.
Стоило Бруссарду на детской площадке упомянуть Рея Ликански, что-то у меня в мозгу щелкнуло, внимание вытянулось по стойке «смирно» и пошло беглым шагом. От разговора с Энджи энергии у меня только прибавлялось.
Пока она заваривала себе бескофеиновый кофе и доставала из холодильника сливки, а из буфета сахар, я мысленно вернулся к тому вечеру в карьере, когда, как казалось, мы окончательно потеряли Аманду Маккриди. Я знал: многое из того, что я пытался сейчас вспомнить и проанализировать, сохранилось у меня в картотеке, но к ней я пока обращаться не хотел. Размышления над карточками отбросили бы меня обратно в то положение, в котором мы находились полгода назад, тогда как попытка воссоздать события того времени сейчас, сидя на кухне, могли позволить по-новому взглянуть на привычное.
Похитители тогда потребовали, чтобы деньги Сыра Оламона в обмен на Аманду принесли четыре человека. Почему же все мы четверо? Почему не кто-то один?
Я спросил об этом Энджи.
Она прислонилась к газовой плите, скрестила на груди руки и задумалась.
— Мне это никогда даже в голову не приходило. Господи, какая же я дура!
— Ужасное прозрение!
Она нахмурилась:
— Раньше ты в моих умственных способностях не сомневался.
— Про себя я знаю, что глуп, — сказал я. — Сейчас мы пытаемся понять это насчет тебя.
— Холмы оцепили, — сказала она, — дороги вокруг них заблокировали — и все равно никого не нашли.
— Может, похитителям Аманды сообщили, как можно выбраться. Может, они подкупили кого-нибудь из полицейских.
— Может, в тот вечер рядом с нами вообще никого не было. — Ее глаза заблестели.
— Срань господня!
Она прикусила нижнюю губу и несколько раз подряд подняла и опустила брови.
— Ты так думаешь?
— Бруссард на той стороне сам стрелял.
— Почему бы и нет?! Поди разгляди. Вспышки мы видели, слышали, как Бруссард сказал, что его обстреливают. Но мы его видели в это время?
— Нет.
— Тогда нас туда доставили, просто чтобы мы подтвердили его рассказ.
Я откинулся на спинку стула и, взъерошив волосы, провел пальцами по вискам вверх.
Неужели настолько все просто? Или, наоборот, так хитро?
— Думаешь, Пул тоже вовлечен? — Над кофеваркой за спиной у Энджи стал подниматься пар, и она отвернулась от стойки.
— Почему спрашиваешь?
Она постучала кофейной чашкой себя по бедру.
— Пул говорил, что Рей Ликански работает на него, а не на Бруссарда. И не забывай, они напарники. Ты же знаешь, как это бывает. Ну, посмотри хоть на Оскара и Девина — они ближе между собой, чем муж и жена. И слепо преданы друг другу, с супругами не сравнить.
Я обдумал сказанное.
— Так в чем же роль Пула?
Энджи налила себе из кофейника, хотя через фильтр кофеварки еще капал вытесняемый паром кофе.
— Все эти месяцы, — сказала она и долила себе в кофе сливки, — знаешь, что меня донимало?
— Ну, что?
— Пустая сумка. Допустим, ты один из похитителей. Прижимаешь копа огнем к скале и подкрадываешься, чтобы забрать деньги.
— Так. И что?
— Тебе приходится тратить лишнее время, чтобы открыть сумку и переложить из нее деньги. Не проще ли забрать сразу и сумку, и деньги?
— Не знаю. Так или иначе, какая разница?
— Разница небольшая. — Она отвернулась от стойки и стала лицом ко мне. — Если сумка с самого начала не была пуста.
— Я видел сумку, когда Дойл отдавал ее Бруссарду. Она была набита деньгами.
— Да, но что было, когда мы добрались до карьера?
— Он освободил ее, поднимаясь вверх? Как?
Энджи поджала губы и покачала головой:
— Не знаю.
Я поднялся со стула, взял из буфета чашку, но не удержал, и она, ударившись о край стойки, упала на пол. Там я ее и оставил.
— Пул, — сказал я. — Сукин сын. Это был Пул. Во время этого своего сердечного приступа, или что там у него было, он упал на сумку. Потом пришла пора двигаться дальше, Бруссард потянулся и вытащил ее из-под Пула.
— Потом Пул спускается по склону холма, — торопливо проговорила Энджи, — и передает содержимое сумки кому-то еще. — Она помолчала. — Затем убивает Маллена и Гутиерреса?
— Думаешь, они подложили другую сумку возле того дерева? — спросил я.
— Не знаю.
Я тоже не знал. Мне казалось возможным, что Пул прихватил двести тысяч, предназначенные для выкупа, но убить Маллена и Гутиерреса? Это уже казалось притянутым за уши.
— Мы договорились, что должна была быть третья сторона.
— Вероятно. Те, кто убрал, унес, увез оттуда деньги.
— И кто это был?
Она пожала плечами:
— Загадочная женщина, звонившая Лайонелу?
— Возможно. — Я поднял упавшую кофейную чашку. Она не разбилась, и, осмотрев ее и убедившись в отсутствии трещин, я налил в нее кофе.
— Господи! — сказала Энджи и усмехнулась. — Да тут не угадаешь.
— Что?
— Да ничего во всей этой истории. Ты слышал, что мы только что говорили? Пул и Бруссард разыграли всю эту пьесу. С какой целью?
— Ради денег.
— Думаешь, такие ребята, как Пул и Бруссард, станут убивать ребенка ради двухсот тысяч?
— Нет.
— Тогда зачем?
Я попробовал найти ответ, но не нашел.
— Ты серьезно считаешь, что они способны убить Аманду Маккриди?
— Люди вообще на что угодно способны.
— Да, но определенные люди категорически неспособны на определенные вещи. Эти двое, по-твоему, могут убить ребенка?
Я вспомнил лицо Бруссарда и голос Пула, когда он рассказывал о девочке, найденной в жидком растворе цемента. Они, может, и великие актеры, но, чтобы убить ребенка с таким же равнодушием, как муравья, надо играть, как Де Ниро.
— Гм, — сказал я.
— Смысл этого высказывания я понимаю.
— Какого?
— Этого твоего «гм». Ты изрекаешь его, когда не знаешь, что сказать.
Я кивнул.
— Признаюсь: не знаю, что сказать.
— Добро пожаловать в клуб единомышленников.
Я отпил кофе. Если хотя бы десятая часть наших предположений была верна, прямо у нас на глазах совершилось довольно крупное преступление. Место, где оно произошло, имело другой почтовый индекс, но мы стояли на коленях рядом с преступниками, и все происходило прямо у нас под носом.
Кстати, я упоминал, что мы зарабатываем себе на жизнь, работая детективами?
Бубба явился к нам вскоре после рассвета.
Он сел скрестив ноги на полу в гостиной и расписался на загипсованной ноге Энджи черным фломастером. Крупными буквами и характерным почерком ученика четвертого класса он нацарапал:
Энджи
Сламала ногу. Илидве. Ха ха.
Рупрехт Роговски.
Энджи прикоснулась к его щеке.
— О, ты подписался «Рупрехт». Как мило!
Бубба покраснел от удовольствия, шлепнул ее по руке и посмотрел на меня.
— Что?
— Рупрехт, — усмехнулся я. — Я и забыл совсем.
Бубба поднялся с пола, и его тень поглотила собой меня и большую часть стены. Он потер подбородок и напряженно улыбнулся.
— Помнишь, Патрик, как я ударил тебя в первый раз?
Я сглотнул.
— В первом классе.
— Помнишь, за что?
Я прочистил горло.
— Я сказал, что плевать мне, какое у тебя имя.
Бубба наклонился ко мне.
— Не хочешь попробовать еще разок?
— Ах нет, — сказал я. Он отвернулся, и я добавил: — Рупрехт.
Он сделал выпад, я уклонился, а Энджи сказала:
— Мальчики, мальчики!
Бубба замер на месте, а я воспользовался этим, чтобы между нами оказался кофейный столик.
— Можем перейти к повестке дня? — Энджи открыла у себя на коленях блокнот и сняла зубами колпачок с ручки. — Бубба, ты можешь отлупить Патрика когда-нибудь в другое время.
Бубба подумал и сказал:
— Это правда.
— Ну, хорошо, — сказала Энджи, записала что-то в блокнот и мельком взглянула на меня.
— Э! — Бубба указал на гипс: — А как ты душ принимаешь в этой штуке?
Энджи вздохнула.
— Итак, что тебе удалось выяснить?
Бубба сел на диван и положил ноги в армейских ботинках на кофейный столик. Вообще-то я подобных вещей у себя в доме не терплю, но, поскольку лед сейчас и так оказался тонок из-за этих воспоминаний о Рупрехте, я промолчал.
— От остатков команды Сыра доходят слухи, что Маллен и Гутиеррес ничего о пропавшем ребенке не слышали. Насколько известно, в тот вечер они поехали в Квинси закупать.
— Закупать что? — спросила Энджи.
— Что наркодилеры обычно закупают? Наркотики. Болтают вокруг костра на бивуаке, — сказал Бубба, — что после чертовски сильной засухи рынок должны были наводнить китайским белым. — Он пожал плечами. — Но этого не произошло.
— Насчет этого ты уверен? — спросил я.
— Нет, — сказал он медленно, как будто говорил с умственно отсталым. — Я побазарил с ребятами из организации Оламона. Никто не слышал, чтобы они собирались ехать к карьеру с ребенком. И самого ребенка тоже никто нигде поблизости ни разу не видел. Так что если Маллен и Гутиеррес где-то и прятали Аманду, то на свой страх и риск. А если они в тот вечер ехали в Квинси, чтобы от нее избавиться, это тоже их собственное предприятие.
Бубба посмотрел на Энджи и ткнул большим пальцем в мою сторону.
— Раньше он вроде посообразительней был, тебе не кажется?
Она улыбнулась.
— Пик умственных способностей у него пришелся на старшую школу, так я думаю.
— И еще, — сказал Бубба, — я так и не смог понять, почему меня не убили в тот вечер.
— Я тоже, — сказал я.
— С кем я ни говорил из команды Сыра, все клянутся и божатся, что не имеют к этой истории никакого отношения. И я им верю. Ведь я страшный мужик. Рано или поздно кто-нибудь проговорится.
— Так тот, кто бил тебя трубой…
— …не из тех, кто убивает регулярно и профессионально. — Он пожал плечами. — Такое у меня мнение.
На кухне зазвонил телефон.
— Кто, черт возьми, звонит в семь утра? — сказал я.
— Кто-то, кто не знает, когда мы ложимся и встаем, — сказала Энджи.
Я пошел на кухню и взял трубку.
— Привет, брат. — Это был Бруссард.
— Привет, — сказал я. — Знаешь, который час?
— Да. Извини, что так рано. Слушай, я на тебя рассчитываю. Очень сильно.
— В чем?
— Один из моих ребят вчера вечером во время преследования сломал себе руку, теперь у нас для игры одного не хватает.
— Для игры? — переспросил я.
— В футбол, — сказал он. — «Ограбления» плюс «убийства» против «наркотики» плюс «нравы» плюс «преступления против детей». Меня вообще-то приписали к автопарку, но, когда дело доходит до футбола, играю за свою прежнюю команду.
— А я-то тут при чем? — спросил я.
— У нас игрока не хватает.
Я рассмеялся так громко, что Бубба и Энджи, сидевшие в гостиной, обернулись и посмотрели с удивлением.
— Это смешно? — спросил Бруссард.
— Реми, — сказал я. — Я — белый, мне за тридцать, в одной руке необратимо поврежден нерв, я футбольный мяч в руках с пятнадцати лет не держал.
— Оскар Ли говорит, ты в колледже выступал в команде по бегу и в бейсбол играл.
— Это только чтобы за обучение расплатиться, — сказал я. — В обоих случаях был запасным. — Я покачал головой и усмехнулся. — Найди кого-нибудь другого. Извини.
— Нет времени искать. Играем в три. Давай, старик. Пожалуйста, умоляю тебя. Нужен парень, который мог бы зажать мяч под мышкой и пробежать несколько ярдов, ну, поиграть немного в обороне. Не засирай мне мозги. Оскар говорит, среди его знакомых ты один из самых быстрых белых.
— Я так понимаю, Оскар тоже там будет.
— Ну да, черт. Только он против нас играет.
— А Девин?
— Амронклин? Это их капитан, — сказал Бруссард. — Патрик, пожалуйста. Не выручишь — мы продули.
Я обернулся в гостиную: Бубба и Энджи смотрели на меня в недоумении.
— Где?
— Стадион «Гарвард». В три часа.
Я помолчал.
— Слушай, старина, если для тебя это важно: я буду фулбэком. Подстрахую, послежу, чтобы тебя не поцарапали.
— В три часа, — сказал я.
— Стадион «Гарвард». Встретимся уже там. — И Бруссард повесил трубку.
Я сразу позвонил Оскару, объяснил ситуацию, и он смеялся целую минуту.
— Он купился? — наконец проговорил он сквозь смех.
— Купился на что?
— Ну, на всю эту лапшу. Я ему навешал про твою скорость. — Он снова громко засмеялся и несколько раз кашлянул. — О-хо-хо, — сказал Оскар, — так он решил тебя раннингбэком поставить?
— Кажется, да.
Он опять засмеялся.
— Ну ты хоть скажи, в чем соль-то, — сказал я.
— Соль вот в чем, — сказал он, — держись подальше от левого фланга, лучше будет.
— Почему?
— Потому что я начинаю игру левым тэклом.
Я закрыл глаза и прислонился головой к холодильнику. Из всех бытовых приборов в данной ситуации именно прикосновение к нему было наиболее уместно. Он был примерно того же размера, формы и веса, что и Оскар.
— Встретимся на поле. — Оскар несколько раз гикнул в полный голос и повесил трубку.
Я пошел в спальню через гостиную.
— Ты куда? — спросила Энджи.
— Спать.
— Что это вдруг?
— Днем важная игра.
— Какого рода игра? — спросил Бубба.
— Футбол.
— Что? — громко сказала Энджи.
— Тебе не послышалось, — сказал я, прошел в спальню и закрыл за собою дверь.
Засыпая, я слышал их смех.
Каждого второго в «наркотиках», «нравах» и «преступлениях против детей» звали Джонами, по крайней мере, так мне показалось. Был тут и Джон Ивс, и Джон Вриман, и Джон Паскуале. Квотербек — Джон Лон, по краю поля — Джон Колтрейн, которого почему-то все звали Джазом. Высокий, худой, с лицом как у младенца коп из «наркотиков» Джонни Дэвис при нападении — тайтэнд и сейфети при обороне. Джон Коркери, начальник ночной смены в шестнадцатом участке и единственный игрок в команде, по работе не связанный ни с «нарко», ни с «нравами», ни с «преступлениями против детей», был еще и капитаном. У третьего из Джонов братья служили в том же отделе, поэтому Джон Паскуале играл тайтэндом, а его брат Вик при нападении по краю поля. Джон Вриман — левый гард, а его брат Мел встал в стойку на позиции правого. Джон Лон, видимо, был неплохой куортербэк, но над ним все насмехались из-за того, что все пасы он отдавал своему брату Майку.
Правда, минут через десять я оставил попытки вспомнить, кого как зовут, и решил звать всех подряд Джонами. Пусть поправляют, если надо.
Остальных игроков в нашей команде «защита прав» звали не Джонами, но зато все они были на одно лицо, независимо от роста, веса и цвета кожи. Так выглядит полицейский, так он держится, развязно и настороженно одновременно, таково обычное выражение его лица, в котором угадывается суровое предостережение, даже когда он смеется. Общее впечатление при знакомстве с ними сводилось к тому, что из друга можно в долю секунды превратиться для них во врага. К какой категории отнести человека, им безразлично, и это во многом зависит от вас, но, однажды решив, кто вы такой, они сразу начнут вести себя по отношению к вам соответствующим образом.
Я знал немало полицейских, общался с ними в нерабочей обстановке, мы вместе выпивали, а нескольких даже считал своими друзьями. Но даже если коп становился другом, это совсем не такой друг, как гражданский. С ним нельзя чувствовать себя раскованно, быть вполне уверенным, что понимаешь ход его мысли. Полицейский всегда что-то утаивает и может быть вполне открытым только с другими полицейскими, да и то изредка.
Бруссард хлопнул меня по плечу и познакомил с другими игроками команды. Кому-то я пожал руку, кто-то просто улыбнулся или кивнул, кто-то сказал: «Славно уделали Корвина Орла, мистер Кензи», после чего мы все собрались вокруг Джона Коркери, который стал излагать план игры.
Впрочем, назвать то, что он излагал, планом, я бы не решился. Коркери напирал в основном на то, какие целки и примадонны играют против нас в «убийствах и ограблениях» и что этот матч мы должны сыграть за Пула, чей единственный шанс выбраться живым и здоровым из отделения интенсивной терапии всецело зависит от того, вытопчем мы дерьмо из команды противника или не вытопчем. Проиграем — и смерть Пула будет на нашей совести.
Слушая Коркери и глядя на наших соперников, собравшихся на поле, я встретился глазами с Оскаром. Он радостно помахал мне и посмотрел на нашу команду с таким отвращением, будто перед ним стояло блюдо с дерьмом, которое ему предстояло отведать. Не заметить это было так же трудно, как долину Мерримак с воздуха. Девин, увидев, что я смотрю в их сторону, тоже улыбнулся, подтолкнул локтем грозного вида чудовище со сморщенным, как у пекинеса, лицом и указал через поле на меня. Чудовище кивнуло. Остальные игроки в «убийствах и ограблениях» были не так крупны, как в нашей команде, но на вид казались более смышлеными, быстрыми и отличались поджаростью, которая говорила скорее о жесткости, чем об изнеженности.
— Сотню баксов тому, кто первым выведет из строя игрока противника, — сказал Коркери и хлопнул в ладоши. — Порвем этих козлов!
Такой призыв выполнял, видимо, роль вдохновляющей речи в духе Рокне,[47] потому что игроки, сидевшие на корточках, повскакали на ноги, замахали кулаками и захлопали в ладоши.
— А шлемы? — спросил я Бруссарда.
Один из Джонов, проходивших в это время рядом с нами, услышал мой вопрос, хлопнул Бруссарда по спине и сказал:
— Прикольный парень. Где такого нашел?
— Без шлемов, — сказал я.
Бруссард кивнул.
— В салочки играем,[48] — сказал он. — Без жесткого контакта.
— Угу, — сказал я. — Само собой.
«Убийства и ограбления» или, как они сами себя называли — «Изувечим», выиграли жеребьевку и предпочли начать игру, обороняясь. Наш бьющий отогнал их на одиннадцатый ярд, и, пока мы занимали позиции, Бруссард указал мне на худого чернокожего парня в команде «Изувечим»:
— Твой игрок. Джимми Пакстон. Пристань к нему, как опухоль.
Центровой «Изувечим» передал мяч, квотербек отскочил на три шага назад, пробросил мяч у меня над головой, и там на двадцать пятом ярде оказался Джимми Пакстон. Я понятия не имел, как он ухитрился проскочить мимо меня, не говоря уж о том, как очутился на двадцать пятом. Но я неловко бросился ему в ноги, подсек на двадцать девятом, и игроки обеих команд пошли к линии схватки.
— Я сказал, как опухоль, — напомнил Бруссард. — Ты все расслышал?
Я посмотрел на него: в глазах была бешеная ярость. Но он тут же улыбнулся, и я понял, как сильно эта улыбка помогала ему в жизни. Добрая, мальчишеская, очень американская и простая.
— Надо приноровиться, — сказал я.
«Изувечим» закончили совещание на поле, и я заметил, как Девин, стоявший у кромки поля, и Джимми Пакстон обменялись кивками.
— Сейчас опять через меня сыграют, — сказал я Бруссарду.
Джон Паскуале, корнербэк, сказал:
— Может, начнешь играть нормально, а?
«Изувечим» передали мяч назад, Джимми Пакстон пронесся вдоль боковой лини, и я с ним. Он сверкнул глазами, распрямился, сказал «Пока, белый мальчик», но я прыгнул вместе с ним, развернулся в полете, вытянул правую руку, ударил по воздуху, но попал по свиной коже и выбил мяч за пределы поля.
Мы с Пакстоном упали на землю, наши тела подпрыгнули на ней, как мячи, и я запомнил: это первое из многих столкновений, из-за которых мне завтра не встать с постели.
Я поднялся на ноги первым и протянул Пакстону руку:
— Ты вроде куда-то собирался.
Он улыбнулся и принял ее.
— Говори-говори, белый мальчик. Уже заводишься.
Мы пошли вместе вдоль края поля к линии схватки, и я сказал:
— Перестанешь звать меня белым мальчиком, не буду звать тебя черным мальчиком. Избежим расовых беспорядков на «Гарварде». Меня зовут Патрик.
Он шлепнул меня по ладони:
— Джимми Пакстон.
— Очень приятно, Джимми.
В следующем эпизоде Девин снова играл через меня, и снова я выбил мяч у Джимми Пакстона из рук.
— Ну и в команду ты угодил, Патрик. Подлая свора, — сказал Джимми Пакстон, когда мы пошли к линии схватки.
Я кивнул.
— А они вас целками считают.
Он тоже кивнул.
— Целками мы быть не можем, но мы и не бешеные ковбои, как эти уебища. «Наркотики», «нравы», «преступления против детей». — Он присвистнул. — Первыми лезут в любую дверь, даже под пули, потому что джизз обожают.
— Джизз?
— Драку, оргазм. С этими ребятами про прелюдии забудь, понял?
В следующем эпизоде Оскар, игравший фулбэком, сбил с ног троих в момент передачи мяча, и раннингбэк бросился в образовавшуюся прореху размером с мой задний двор. Но какой-то Джон — то ли Паскуале, то ли Вриман, я к тому времени уже совсем запутался, кто из них кто — схватил на тридцать шестом за руку игрока, владеющего мячом, и «Искалечим» решили сделать пант.[49]
Через пять минут начался дождь, и остаток первой половины матча превратился в мучение в духе Марти Шоттенхаймера[50] и Билла Парселлса.[51] Двигаться на скользком поле было трудно, игроки падали, валялись в грязи, ни одна из команд к победе существенно не продвинулась. Как раннингбэк я набрал около двенадцати ярдов на четырех переносах мяча, а как сейфети дважды облажался с Джимми Пакстоном, после чего стал опекать его так плотно, что куортербэк изменил стратегию и стал играть через других принимающих.
К концу первой половины матча счет так и не открыли, хотя перевес сил был явно на нашей стороне. На второй попытке в красной зоне «Изувечим», когда за двадцать секунд до перерыва оставалось пройти два ярда, мы получили право распорядиться мячом, и Джон Лон перебросил его мне. Я увидел впереди прореху, в которой было только зеленое, обошел лайнбэкера, зажал мяч под мышкой, пригнул голову, бросился в прореху, и тут откуда ни возьмись окутанный на холодном дожде облаком пара на меня налетел Оскар. Мне показалось, я столкнулся с «Боингом-747». Пока я поднимался, дождь успел забрызгать мне щеку грязью, и первая половина игры закончилась. Оскар протянул мне окорок, который у обычного человека называется рукой, поставил рывком на ноги и едва слышно усмехнулся.
— Блевать будешь?
— Подумываю об этом, — сказал я.
Он хлопнул меня по спине, по-видимому показывая свое дружеское отношение, отчего я едва не клюнул лицом в грязь.
— Смелая попытка, — сказал он и пошел к скамье, у которой собиралась их команда.
Игроки «защиты прав» за боковой линией открыли ящик с холодным пивом и содовой.
— А как же салочки? — спросил я Реми.
— После того что сделал сержант Ли, перчатки сбрасывают.
— Так мы что же, вторую половину будем играть в шлемах?
Он покачал головой и вытащил себе из коробки банку пива.
— Никаких шлемов. Просто играть будем подлее.
— У вас на этих играх кого-нибудь убивали?
Он улыбнулся.
— Пока нет. Но еще не вечер. Пиво будешь?
Я покачал головой, надеясь, что когда-нибудь в ней перестанет звенеть.
— Возьми мне воды.
Он передал мне бутылку «Польского родника», положил руку на плечо и отвел в сторонку на несколько метров по боковой линии. На трибунах собралось несколько человек, большей частью пришедшие тренироваться, побегать вверх-вниз по лестнице между трибунами, все они застали игру случайно. Один высокий парень сидел отдельно от остальных, положив длинные ноги на перила и надвинув на глаза бейсбольную кепку.
— Вчера вечером… — начал Бруссард, и эти два слова зависли под дождем.
Я отпил из бутылки.
— …я сболтнул кое-что, чего говорить не следовало. Рому перебрал, в голове помутилось.
Я посмотрел на ряд греческих колонн, опоясывавших трибуны с тыла.
— Например?
Бруссард стал передо мной.
— Не пробуй играть со мной, Кензи.
— Патрик, — сказал я и сделал шаг вправо.
Он шагнул в ту же сторону и оказался со мной нос к носу. В его глазах плясали злые огоньки.
— Мы оба знаем, что у меня сорвалось лишнее. Давай забудем об этом.
Я дружески и смущенно улыбнулся ему.
— Не понимаю. Ты о чем, Рэми?
Он медленно покачал головой:
— Ты ведь не хочешь так играть, Кензи. Ты понимаешь.
— Нет, я…
Я не видел движения его руки, но почувствовал резкую боль в костяшках пальцев, и бутылка «Польского родника» вдруг оказалась у моих ног, из нее, булькая, на раскисшую землю потекла вода.
— Забудь вчерашний вечер, и останемся друзьями. — Огоньки у него в зрачках перестали плясать, но загорелись ровным светом, как будто там тлели угли.
Я посмотрел на бутылку, на грязь, заляпавшую прозрачный пластик.
— А если не забуду?
— Тогда будет то, что тебе совсем ни к чему. — Он склонил голову и посмотрел мне в глаза, как будто разглядел у меня в мозгу, в памяти что-то, от чего следовало бы избавиться. А может, и не следовало. Он еще не решил.
— Договорились?
— Да, Реми, — сказал я. — Договорились. Само собой.
Он долго и пристально смотрел мне в глаза, ровно дыша носом. Наконец поднес ко рту банку с пивом, изрядно отпил и опустил.
— Это полицейский Бруссард, — объявил он и пошел на поле.
Во второй половине была уже не игра, а просто побоище.
Дождь, грязь, запах крови так подействовали на игроков обеих команд, что началось мочилово. Раз за разом поле покидали то трое из «Изувечим», то двое из «защиты прав». Одного — Майка Лона — унесли после того, как Оскар и хмырь из «ограблений» по имени Зик Монфриз налетели на него одновременно с противоположных сторон.
Я заработал два здоровенных синяка на ребрах и удар пониже поясницы, который должен был аукнуться на следующее утро кровью в моче, но по сравнению с расквашенными носами и залитыми кровью лицами других (кто-то даже выплюнул два зуба у хэш-отметки[52] первой попытки), я чувствовал себя просто невредимым счастливчиком.
Бруссард стал играть тейлбэком, и до конца матча мы с ним были друг от друга далеко. Один парень разорвал ему нижнюю губу. Бруссард расплатился с ним так жестоко, что тот долго лежал на земле, кашляя и исходя рвотой, а потом хоть и поднялся, но стоял покачиваясь, как яхта при килевой качке. Потом, свалив его приемом «бельевая веревка», Бруссард еще основательно попинал лежачего, и «Изувечим» возмутились. Бруссард стоял за стеной из игроков нашей команды, а Оскар с Зиком пытались достать его руками, ногами и обидными словами. Бруссард заметил мой взгляд и улыбнулся, как счастливый трехлетний ребенок, поднял вымазанный кровью палец и погрозил мне.
Мы выиграли, забив филдгол.[53]
Как любому американскому мальчишке, в юности отчаянно мечтавшему стать спортсменом, как взрослому мужчине, до сих пор отменяющему большую часть своих дел с полудня субботы, мне следовало бы прийти в восторг от, возможно, последней в жизни игры в составе команды, от ярости противостояния, сравнимого разве что с соитием. Мне бы улюлюкать и плакать от радости, но ничего такого не хотелось.
Я стоял в центре поля первого в стране стадиона, выстроенного специально для футбольных матчей, смотрел на колонны с греческими капителями, на пузыри дождя на рядах сидений, на холодно-багровое небо, вдыхал последние запахи зимы, умирающей под апрельским дождем, отдающим металлом. Близился вечер.
Чувствовал же я, что мы просто глупые и жалкие мужики, не желающие смириться со своим возрастом и готовые ломать кости и рвать губы другим таким же мужикам только ради того, чтобы сместить коричневый мяч на два-три ярда, фута или дюйма к зачетной зоне противника.
Я смотрел на Бруссарда, стоявшего за кромкой поля, на то, как он льет себе пиво на окровавленный палец, осторожно смачивает им разорванную губу и подставляет для поздравительных ударов товарищей по команде ладонь поднятой руки, и мне стало страшно.
— Расскажите о нем, — попросил я Девина и Оскара, сидевших со мной у бара.
— О Бруссарде?
— Да.
Обе команды решили собраться после игры в баре на Вестерн-авеню в Аллистоне, примерно в полумиле от стадиона. Бар назывался «Бойн», по названию реки в Ирландии, протекающей через деревню, в которой выросла моя мама и потеряла своего отца-рыбака и двух братьев из-за убийственного сочетания двух жидкостей, виски и морской воды.
Заведение по меркам ирландских баров было освещено чрезмерно, что усугублялось столами из светлой древесины, светло-бежевыми сиденьями, образовывающими отгороженные друг от друга кабинеты, и светлой же сверкающей стойкой бара. Большинство ирландских баров темноваты, отделаны красным деревом или дубом, полы в них обычно черные. Темнота, как мне всегда казалось, позволяет лучше ощутить близость собутыльника, которая так необходима нам, ирландцам, чтобы пить, как мы это обычно делаем, неумеренно.
В ярком свете было хорошо видно, как противостояние, в котором мы только что участвовали на открытом стадионе, продолжается в помещении. Ребята из «убийств и ограблений» расселись у стойки и за небольшими столиками напротив нее. Их противники расположились в глубине зала в кабинетах, стояли кучками рядом с небольшой сценой, расположенной у пожарного выхода. Говорили так громко, что ирландское трио, исполнив четыре песни, на этом выступление и закончило.
Понятия не имею, что думало начальство этого обычно немноголюдного бара, когда в него ввалилось пятьдесят мужиков с окровавленными лицами. Может, на кухне в готовности сидели запасные вышибалы или кто-то звонил в департамент полиции Брайтона, сообщая о необходимости повысить уровень террористической угрозы, но нашествие явно несло заведению прибыль. Пиво и крепкие напитки полились рекой, бармен едва успевал выполнять заказы, поступавшие из глубины зала, а его помощники, бродя среди посетителей, подметать разбитое стекло бутылок и содержимое перевернутых пепельниц.
Бруссард и Джон Коркери заседали где-то вдали от стойки и, перекрывая шум, произносили тосты за «защиту прав». Бруссард прикладывал к поврежденной губе то салфетку, то бутылку холодного пива.
— Я-то думал, вы — кореши, — сказал Оскар. — Что, мамки больше не разрешают играть вместе или вы сами расплевались?
— Мамки, — сказал я.
— Отличный коп, — сказал Девин, — порисоваться, правда, охотник, но в «наркотиках» и «нравах» они все такие.
— Бруссард из «преступлений против детей». Черт, и даже не там он. Он теперь в автопарке.
— Раньше был в «преступлениях против детей», — сказал Девин. — Года два там продержался. До этого пять лет в «нравах», пять лет в «наркотиках».
— Больше. — Оскар рыгнул. — Мы одновременно уходили из «охраны жилого сектора», год проходили в форме, потом он пошел в «нравы», а я в «сопряженные с насилием». Это в восемьдесят третьем было.
В это время Реми, сидевший между двумя копами, каждый из которых что-то говорил ему в соответствующее ухо, посмотрел в нашу сторону, поднял бутылку пива и движением головы пригласил нас выпить вместе с ним.
Мы подняли свои.
Он улыбнулся, с минуту смотрел на нас, потом отвернулся к сидевшим рядом с ним.
— Бывших сотрудников «нравов» не бывает, — сказал Девин. — Такие засранцы.
— На будущий год их сделаем, — сказал Оскар.
— Тогда будут уже другие, — с горечью сказал Девин. — Бруссард уходит, Вриман — тоже. Коркери в январе тридцать лет службы стукнет, говорят, он себе уже купил дом в Аризоне.
Я подтолкнул Девина локтем:
— Ну а ты что? Сам скоро тридцать лет служишь.
Он фыркнул.
— Я — на пенсию? А жить на что? — Он запрокинул голову и вылил в горло стопку виски «Уайлд теки».
— Единственный для нас способ оставить службу — на носилках, — сказал Оскар, и они с Девином чокнулись пивными кружками.
— А с чего такой интерес к Бруссарду? — спросил Девин. — Я думал, вы с ним кровью повязаны после этой истории в доме Треттов. — Он повернул голову и хлопнул меня по плечу тыльной стороной ладони. — Праведное, кстати, дело сделали.
Я не стал отвечать на комплимент.
— Просто Бруссард мне интересен.
— Поэтому он у тебя бутылку с водой из рук выбил? — спросил Оскар.
Я посмотрел на него. Мне-то казалось, что никто не мог этого видеть, потому что Бруссард тогда загораживал меня от скамейки своим телом.
— Ты видел?
Оскар кивнул огромной головой.
— И как он на тебя посмотрел после того, как свалил «бельевой веревкой» Рога Доулмана, тоже.
— Я тоже заметил, — сказал Девин, — как он сюда поглядывает, следит за нашей непринужденной дружеской беседой.
Один из Джонов, работая локтями, втиснулся между нами, заказал два кувшина пива и три стопки «Джима Бима». Едва не опираясь локтем мне на плечо, он посмотрел сверху вниз сначала на меня, потом на Девина и Оскара.
— Как оно, ребята?
— Да пошел ты, Паскуале, на х… — сказал Девин.
— Я понимаю, — сказал Паскуале, — ты это в самом ласковом смысле.
— Да конечно, — сказал Девин.
Бармен поставил перед Паскуале два кувшина пива, и тот усмехнулся. Я пригнулся, он забрал кувшины, передал их Джону Лону, снова повернулся к бару и, ожидая, пока ему нальют стопки, забарабанил пальцами по стойке.
— Вы, ребята, слыхали, что наш приятель Кензи сотворил в доме Треттов? — Он подмигнул мне.
— Слыхали кое-что, — сказал Оскар.
— Роберта Третт там на кухне, говорят, — сказал Паскуале, — совсем уж было Кензи прикончила, но он нырнул, и она шмальнула в лицо собственному муженьку.
— Славный нырок, — сказал Девин.
Паскуале получил выпивку и бросил на стойку деньги.
— Хорошо ныряет, — сказал он и, задев мне локтем ухо, забрал стопки со стойки. Он обернулся, и мы встретились глазами. — Тут, однако, больше везения, чем умения. В этом нырянии. Согласен? — Он повернулся спиной к Оскару и Девину и, не переставая смотреть мне в глаза, залпом опрокинул стопку. — А с везением, старина, такое дело: оно рано или поздно кончается, — сказал Паскуале и стал пробираться сквозь толпу в дальнюю часть зала.
Оскар и Девин, повернувшись, проводили его взглядом.
Оскар вытащил из кармана рубашки наполовину выкуренную сигару, не отводя глаз от Паскуале, закурил и затянулся. Черный табак запищал.
— Ловок, — сказал он и бросил спичку в пепельницу.
— Что происходит, Патрик? — спросил Девин без всякой интонации, не отрывая взгляда от пустой стопки, оставленной Паскуале.
— Да я не знаю, — сказал я.
— Завел себе врагов-ковбоев, — сказал Оскар. — Не очень удачный ход.
— Непреднамеренно, — сказал я.
— У тебя что-то есть на Бруссарда? — спросил Девин.
— Может быть, — сказал я. — Есть.
Девин кивнул, его правая рука соскользнула со стойки, и он крепко пожал мне локоть.
— Что бы там ни было, — сказал он и напряженно улыбнулся, посмотрев в сторону Бруссарда, — оставь это.
— А если не могу?
За плечом Девина замаячила голова Оскара. Он посмотрел на меня безжизненным взглядом.
— Лучше не стоять у него на пути. Уйди, Патрик.
— А если не могу?
— Тогда, может быть, скоро вообще ходить не сможешь, — вздохнул Девин.
Мы все-таки решили навестить Пула, не слишком надеясь, что от этого что-то изменится.
Медцентр Новой Англии раскинулся на два городских квартала, корпуса с крытыми переходами между этажами сосредоточились между Чайнатауном, театральным кварталом и тем зиянием, которое осталось от цехов «Комбата».[54]
Ранним воскресным утром найти там свободное место на платной стоянке непросто, а в четверг вечером просто невозможно. Шуберт показывал бог знает какую по счету постановку «Мисс Сайгон», Ванги представляли последнее напыщенное сочинение Эндрю Ллойда Веббера или кого-то другого, но похожего на него, специально созданное для аншлага, перегруженное всем, чем только можно, вымученное, феерию дерьмового пения. Нижнюю часть Тремон-стрит запрудили такси, лимузины, черные галстуки, светлые меха, раздраженные полицейские дули в свистки и делали знаки водителям подальше объезжать автомобили, припаркованные у обочины в три ряда.
Мы не стали колесить по кварталу, а просто свернули к многоярусной парковке медцентра, получили квитанцию. Место нашлось только на шестом ярусе. Я вышел из машины и помог выбраться Энджи. Мы стали пробираться среди машин.
— Где здесь лифты? — спросила она у молодого человека баскетбольного телосложения, курившего тонкую сигару «Коиба», прислонившись к задней дверцы черного «шеви-сабербан».
— Туда, — произнес он и ткнул пальцем налево от себя.
— Спасибо, — сказала Энджи, и мы, благодарно улыбнувшись, пошли мимо.
Он улыбнулся в ответ и слегка махнул сигарой.
— Умер он.
Мы остановились как вкопанные. Я обернулся и посмотрел на парня. Он был в синей флисовой куртке с коричневым кожаным воротником и клинообразным вырезом на груди, черных джинсах и черных же ковбойских сапожках, потертых, как у наездника родео. Стряхнув с сигары пепел, он снова сунул ее в рот и посмотрел на меня.
— Кто умер? — спросил я.
— Ник Рафтопулос.
Энджи развернулась на костылях и стала к парню лицом.
— Простите, кто?
— Тот, кого вы проведать приехали. Ведь верно? Ну, проведать не удастся, потому что он час назад умер. Остановка сердца вследствие значительной травмы, полученной в результате пулевого ранения на крыльце дома Леона Третта. При данных обстоятельствах дело вполне естественное.
Энджи задвигала костылями, я тоже сделал несколько шагов вперед, и мы подошли к парню вплотную.
— Сейчас вы меня спросите, откуда я знаю, к кому вы приехали. Ну спрашивайте, кто первый?
— Вы, собственно, кто? — поинтересовался я.
— Нил Раерсон, — сказал он, изобразив замысловатый поклон, сопровождаемый движением руки с воображаемой шляпой. — Зовите меня Нил. Хотелось бы иметь какое-нибудь крутое прозвище, но не всем же так везет. Вы — Патрик Кензи, а вы — Энджела Дженнаро. Должен сказать, мадам, даже в гипсе выглядите вы гораздо лучше, чем на фотографии. Таких, как вы, мой папаня называл красотулями.
— Пул умер? — спросила Энджи.
— Да, мадам, боюсь, что так. Слушайте, Патрик, вы не могли бы пожать мне руку? А то, знаете ли, несколько утомительно стоять вот так с протянутой.
Я слегка стиснул ему руку, и он сразу протянул ее Энджи, которая на этот жест не обратила никакого внимания. Она чуть подалась назад, вглядываясь в лицо Нила Раерсона, и покачала головой.
— Платяных вшей опасаетесь? — Он посмотрел на меня и убрал руку во внутренний карман куртки.
Я потянулся рукой за спину.
— Не бойтесь, мистер Кензи, не бойтесь. — Он достал тощий бумажник, раскрыл его и показал нам серебряный значок и удостоверение. — Специальный агент Нил Раерсон, — сказал он глубоким баритоном. — Департамент правосудия. Оп-ля! — Бумажник перекочевал обратно в карман. — Отдел борьбы с организованной преступностью. М-да, а вы не очень-то разговорчивые собеседники!
— Зачем вы пытаетесь заговорить с нами? — спросил я.
— Потому, мистер Кензи, что, насколько я могу судить по футбольному матчу, вы как бы испытываете недостаток в друзьях. А я как раз по роду деятельности подыскиваю людям друзей.
— Но я не ищу друзей.
— А у вас выбора нет. Может, мне придется быть вашим другом, нравится вам это или не нравится. И я довольно хороший друг. Буду слушать ваши рассказы, смотреть с вами бейсбол, станем с вами ходить по разным классным забегаловкам.
Мы с Энджи переглянулись, повернулись и пошли к своей машине. Я подошел к дверце пассажирского сиденья первым, разблокировал ее и уже начал открывать.
— Убьет вас Бруссард, — сказал Раерсон.
Мы оба обернулись. Он затянулся сигарой, обогнул «сабербан» сзади и двинулся к нам широкими шагами, как будто шел по корту после окончания игры.
— Он это мастерски делает. Обычно не сам, конечно, но хорошо планирует убийство. Первоклассно.
Я забрал у Энджи костыли и, открывая заднюю дверь, чтобы положить их на заднее сиденье, слегка чиркнул ее краем по спине Раерсона.
— Не беспокойтесь, спецагент Раерсон.
— Вот то же наверняка думали и Крис Маллен с Фараоном Гутиерресом.
Энджи оперлась на открытую дверцу.
— Фараон Гутиеррес работал на наркотдел? — Она достала сигареты.
— Никак нет. Осведомителем в отделе борьбы с организованной преступностью. — Раерсон зашел мне за спину и дал Энджи прикурить от зажигалки «зиппо». — Мой человек. Я его завербовал. Работал с ним шесть с половиной лет. Собирался помочь мне свалить Сыра, а потом и всю его организацию. Потом очередь дошла бы до поставщика Сыра по имени Нгиун Танг. — Он показал на восточную стену стоянки. — Важная шишка в Чайнатауне.
— Но?
— Но… — Раерсон пожал плечами. — Фараон отдал концы.
— Думаете, это Бруссард?
— Думаю, Бруссард это запланировал. Сам он не убивал, потому что был слишком занят, рассказывал всем, как его обстреливали у карьера.
— Так кто же тогда убил Маллена и Гутиерреса?
Раерсон посмотрел в потолок.
— А кто вынес деньги из холмов? Кого нашли рядом с убитыми?
— Погодите. Минуточку, — сказала Энджи. — Пул? Думаете, их Пул застрелил?
Раерсон прислонился к «ауди», стоявшей рядом с нашей машиной, и сделал долгую затяжку. В свете флуоресцентных ламп поплыли кольца сигарного дыма.
— Николс Рафтопулос. Родился в Свомпскотте, штат Массачусетс, в сорок восьмом году. Поступил на службу в департамент полиции Бостона в шестьдесят восьмом вскоре после возвращения из Вьетнама, где был награжден Серебряной звездой и отличился — вот неожиданность-то! — как первоклассный снайпер. Лейтенант, под началом которого он служил, говорил (я цитирую): «Летящей мухе це-це попадет в жопу с пятидесяти ярдов». — Раерсон покачал головой. — Эти вояки порой так цветисто выражаются!
— Так вы думаете…
— Я думаю, мистер Кензи, что нам надо поговорить.
Я отступил на шаг. В нем наверняка было больше метра девяноста. Идеально стриженные песчаного цвета волосы, раскованная манера вести себя и покрой одежды выдавали в нем человека обеспеченного. Теперь я его узнал: сегодня днем во время матча он сидел отдельно от остальных на трибуне стадиона «Гарвард», ссутулившись, надвинув на глаза бейсбольную кепку, и его длинные ноги крючками торчали над перилами. Я мог бы видеть его и в Йеле, где он пытался выбрать между учебой на юриста и работой на правительство. И то и другое поприще сулило государственную должность к возрасту, когда начинают седеть виски, но работа на правительство позволяла носить оружие. И этим отличаться от остальных. Да, сэр.
— Приятно было познакомиться, Нил, — сказал я, идя к дверце водительского сиденья.
— Я не шутил, говоря, что он убьет вас.
Энджи усмехнулась:
— А вы нас, я так полагаю, спасать будете.
— Я представитель Министерства юстиции. — Он положил ладонь себе на грудь. — Пуленепробиваем.
Я взглянул на него поверх крыши «краун-виктории».
— Вам кажется, Нил, что вы кого-то защищаете, поскольку вы всегда за спинами у других.
— Ух. — Его рука затрепетала у сердца. — Это сильно сказано, Пат.
Энджи забралась на сиденье, я тоже сел и стал заводить двигатель. Нил Раерсон постучал костяшками пальцев в окно рядом с Энджи. Она нахмурилась и посмотрела на меня. Я пожал плечами. Она медленно опустила стекло, Нил Раерсон присел на корточки и положил руки на нижний край окна.
— Должен вам сказать, что, по-моему, не желая меня выслушать, вы совершаете большую ошибку.
— Нам это не впервой, — сказала Энджи.
Держась за дверцу, он отклонился назад, затянулся, выдохнул дым и вернулся в прежнее положение.
— Когда я был мальчишкой, отец брал меня на охоту в горы неподалеку от того места, где мы тогда жили. Называлось оно Бун, в Северной Каролине. И папаня — он мне всякий раз это повторял, начал, когда мне было восемь, и до восемнадцати. Так вот папаня говорил: надо смотреть в оба и не зевать, опасаясь не лося и не оленя, а других охотников.
— Глубокая мысль, — заметила Энджи.
Он улыбнулся.
— Понимаете, Пат, Энджи…
— Не называйте его Патом, — перебила Энджи, — он этого терпеть не может.
Нил поднял руку, в которой держал сигару.
— Тысяча извинений, Патрик! Как я мог?! Враг — это мы сами. Понимаете? И эти «сами» скоро за вами явятся. — Он указал на меня тонкой сигарой. — «Сами» с вами уже сегодня поговорили. Сколько еще пройдет времени, прежде чем он поднимет цену? Он ведь знает: даже если вы слегка пойдете на попятную, рано или поздно все равно возьметесь за свое, опять не те вопросы задавать будете. Черт, вот зачем вы нынче явились повидать Ника Рафтопулоса. Правильно я говорю? Надеялись, что он еще ничего, что сможет ответить на какие-то из ваших неудобных вопросов. А теперь можете обратно ехать. Мне вас не остановить. Но он за вами явится. И тогда станет еще хуже.
Мы с Энджи переглянулись. Дым от сигары Раерсона проник в машину, ко мне в легкие и застрял там, как волос в стоке раковины.
Энджи обернулась к Раерсону и махнула кистью. Он знак понял и отпустил дверцу.
— «Синий вагон-ресторан», — сказала она. — Знаете?
— В шести кварталах отсюда, даже ближе.
— Поговорим там, — сказала она, мы выехали из ряда стоявших машин и повернули к выезду с этажа.
Вечером «Синий вагон-ресторан» выглядит поистине круто. Единственная реклама с намеком на неон располагается со стороны Ниланд-стрит в самом начале Кожевенного квартала — большая белая кофейная чашка висит над вывеской заведения в самом бойком, с точки зрения коммерции, месте, поэтому ресторан, по крайней мере, с автомагистрали выглядит как грезы Эдварда Хоппера[55] при ночном освещении.
Не уверен, впрочем, что сам Хоппер заплатил бы за гамбургер шесть тысяч долларов. Не то чтобы в «Синем вагоне-ресторане» драли именно столько, но что-то около того. Бывало, я покупал машины дешевле, чем платил там за чашку кофе.
Нил Раерсон заверил нас, что за все платит Министерство юстиции, поэтому мы не скупясь заказали себе по чашке кофе и бутылке кока-колы. Я бы себе и гамбургер заказал, но вовремя вспомнил, что бюджет министерства складывается среди прочего и из налогов, которые плачу я сам, после чего Раерсон перестал казаться мне таким уж щедрым.
— Давайте начнем с самого начала, — сказал я.
— Всенепременно, — сказала Энджи.
Раерсон налил себе в кофе сливки и передал их мне.
— А где тут самое начало?
— Начнем с исчезновения Аманды Маккриди, — сказал я.
Он покачал головой:
— Нет. Это только для вас начало, потому что тогда вы подключились к расследованию. — Он помешал кофе, вынул из него ложечку и указал ею на нас. — Три года назад борец с распространением наркотиков Реми Бруссард застает Сыра Оламона, Криса Маллена и Фараона Гутиерреса во время проверки качества товара на перерабатывающем заводе в Южном Бостоне.
— А я думала, вся переработка наркотического сырья происходит за границей, — сказала Энджи.
— «Переработка» — эвфемизм. Они там фасуют дрянной кокаин в упаковки для сухого молока. Бруссард со своим напарником Пулом и еще двое-трое ковбоев из «наркотиков» взяли Оламона, моего мальчика Гутиерреса и еще кучу других ребят. Но штука в том, что их не арестовали.
— Почему?
Раерсон достал из кармана новую сигару, но тут заметил объявление «Пожалуйста, не курите сигары и трубки. Спасибо», со стоном положил сигару на стол и стал теребить в руках ее целлофановую упаковку.
— А не арестовали их потому, что арестовывать было не за что. Все вещественные доказательства уничтожили. Сожгли.
— Сожгли кокаин, — сказал я.
Он кивнул.
— Фараон говорил, что они сами и сожгли. Годами ходили слухи, что в отделе, боровшемся с распространением наркотиков, существовало особое подразделение, имевшее мандат в случае крайней необходимости разбираться с наркодилерами по собственному усмотрению. Но не арестовывать: арест только сделал бы их героями в глазах городской молодежи, их показали бы по телевизору, и весьма сомнительно, чтобы многих из них признали в суде виновными. Нет, в задачу этого особого подразделения входило уничтожение того, что удавалось захватить при дилерах. И чтобы они наблюдали за процессом уничтожения. Не забывайте, дело было во время войны, объявленной наркотикам. И кое-кто из предприимчивых бостонских копов решил вести эту войну партизанскими методами. Эти ребята, о них до сих пор ходят слухи, были истинными неприкасаемыми.[56] Их нельзя было подкупить, нельзя договориться. Фанатики. Большую часть мелких дилеров они вывели из бизнеса, многих вновь пришедших отправили прямиком из города. Более крупные — типа Сыра Оламона, банды «Уинтер-Хилл», итальянцы и китайцы довольно скоро сами стали наводить эти рейды полиции в качестве платы за возможность продолжать бизнес. Со временем, поскольку торговля наркотиками пошла на убыль, а сами рейды оказались не более эффективны, чем какие-либо другие меры, это подразделение, по слухам, распустили.
— А Бруссарда и Пула перевели в отдел по борьбе с преступлениями против детей.
Он кивнул:
— Вместе с другими. Некоторых оставили бороться с наркоторговлей, кого-то перевели в «нравы», «правомочия», в общем, сами понимаете. Но Сыр Оламон ничего не забыл. И ничего не простил. Он поклялся, что наступит день, и он доберется до Бруссарда.
— Почему именно до Бруссарда, а не до кого-нибудь другого?
— Фараон говорил, что у Сыра были личные счеты с Бруссардом. И дело не в том, что тот спалил у него товар, но в том, что насмехался над Сыром, пока товар сжигали, унижал в присутствии подчиненных. Сыр принял это близко к сердцу.
Энджи закурила сигарету и протянула пачку Раерсону.
Он взглянул на свою сигару, потом на вывеску, запрещавшую ее курить, и сказал:
— Конечно. Почему бы и нет?
Сигарету он курил так, как курят сигары, не вдыхал глубоко, а только попыхивал, едва позволял дыму окутать язык и сразу выдыхал.
— Прошлой осенью, — продолжал он, — мне позвонил Фараон, и мы встретились. Он сказал, что Сыр раскопал что-то на Бруссарда, не новое, а что-то такое, что было несколько лет назад, и хочет устроить расплату. Что будто бы Маллен давал понять, что все, кто находился на складе в тот вечер, когда Бруссард со своими ребятами жгли кокаин, кто сидел рядом и подвергался унижениям, кому смеялись в лицо, что все они получат от расплаты большое удовольствие. Мне, правда, не совсем понятно, с чего это Маллен и Фараон так сдружились, что один другому давал что-то такое понять. Фараон мне пудрил мозг с этим своим «что было, то прошло», но меня ведь на такое не возьмешь. Я считаю, что единственное, на чем Фараон и Крис Маллен могли сойтись, — это жадность.
— Так, значит, в организации — дворцовый переворот, — сказал я.
Раерсон кивнул.
— Но, к несчастью для Фараона, Сыр что-то почуял.
— И что же Сыр имел на Бруссарда? — спросила Энджи.
— Фараон мне не говорил. Будто бы Маллен не хотел ему это рассказать. Что будто бы, если рассказать, то сюрприза уже не получится. Последний раз я говорил с Фараоном в день его смерти. Он сказал, что они с Малленом последние несколько дней водят полицейских всего города за нос и что в тот вечер они будто бы должны забрать двести штук, поставить на место одного копа, а потом вернуться по домам. Как только все это произойдет и Фараон поймет, что именно узнал Оламон о Бруссарде, он сдаст Бруссарда и Маллена мне. Получится, что я задержу самых важных преступников за всю свою карьеру и после этого навсегда оставлю Фараона в покое. По крайней мере, он на это надеялся. — Раерсон затушил сигарету. — Остальное вы знаете.
Энджи посмотрела на него, смущенно нахмурившись.
— Ничего мы не знаем. Черт. Агент Раерсон, у вас есть какие-нибудь предположения о том, как со всем этим связано исчезновение Аманды Маккриди?
Он пожал плечами.
— Может, Бруссард сам ее похитил.
— Зачем? — спросил я. — Просто в один прекрасный день проснулся и решил, что хочет похитить ребенка?
— Слыхал я и более странные вещи. — Раерсон облокотился о стол. — Слушайте, у Сыра на него что-то было. И что именно? Все сходится на исчезновении этой девочки. Давайте рассмотрим ситуацию. Бруссард похищает ее, может быть, чтобы вынудить мать стучать на Оламона, и получает двести кусков, которые она, как говорил мне Фараон, слупила с Сыра.
— Погодите, — сказал я. — Никак не могу понять: зачем Сыру посылать Маллена выбивать из Хелен и Рея Ликански место, где находятся украденные деньги, за несколько месяцев до исчезновения Аманды.
— Затем, что Сыр не знал о пропаже денег до дня исчезновения Аманды.
— Как?!
Он кивнул.
— Красота схемы Ликански — хоть я и должен признать, что он поступил недальновидно, — заключалась в том, что он знал: все решат, что деньги у байкеров конфискованы вместе с наркотиками. Сыру потребовалось три месяца, чтобы докопаться до истины. И как только он докопался, Аманда исчезла.
— Это, — сказала Энджи, — говорит о том, что похититель — Маллен.
Раерсон покачал головой:
— Не думаю. По-моему, Маллен или кто-то другой из людей Сыра поехал в тот вечер к дому Хелен, чтобы как следует ее вздрючить и выяснить, где деньги. Но вместо этого застали Бруссарда, который забирал ребенка. Теперь у Сыра появляется кое-что, чем можно Бруссарда шантажировать, что Сыр и делает. Но Бруссард натравливает на Сыра его подчиненных. Сообщает правоохранительным органам, что Сыр похитил Аманду и требует за нее выкуп. Людям Сыра он говорит, что принесет деньги к карьеру и отдаст Маллену, заранее зная, что припрячет деньги по дороге, сбросит девочку в карьер и смоется с наличными. Он…
— Идиотизм, — сказал я.
— Почему?
— Зачем Сыру позволять считать себя похитителем Аманды Маккриди?
— Он и не позволял. Бруссард выставил Сыра похитителем, не ставя его в известность.
Я покачал головой:
— Бруссард говорил ему. Я при этом присутствовал. В октябре мы ездили к Сыру в тюрьму и расспрашивали его об исчезновении Аманды. Если бы они с Бруссардом были сообщники, им бы пришлось валить вину на людей Сыра. Зачем бы Сыру это делать, если, как вы говорите, он держал Бруссарда за яйца? Зачем без необходимости брать на себя вину за похищение и смерть четырехлетнего ребенка?
Раерсон ткнул в мою сторону нераскуренной сигарой.
— Сейчас поймете, мистер Кензи. Вы никогда не задумывались, зачем вас двоих так старательно держат в курсе полицейского расследования? Почему именно вы должны были прийти к карьеру в тот вечер? Вы — свидетели. Такова ваша роль. Бруссард и Сыр устроили для вас в тюрьме спектакль. Пул и Бруссард разыграли другой у карьера. Ваша задача была видеть то, что они хотели вам показать, и принять это за правду.
— Кстати, — сказала Энджи, — как Пул мог симулировать сердечный приступ?
— Кокаин, — ответил Раерсон. — Я такое однажды уже видел. Чертовски рискованно, потому что кок легко может вызвать тромбоз сосудов сердца. Но такой человек, как Пул, учитывая возраст и профессию, может и выдержать. Не всякий врач догадается посмотреть кокаин в крови, решат, что это сердечный приступ.
Воцарилось молчание, на протяжении которого я насчитал двенадцать машин, проехавших по Ниланд-стрит.
— Агент Раерсон, давайте снова вернемся назад, — заговорила Энджи. На конце ее сигареты, лежавшей в углублении на краю пепельницы, образовался длинный дугообразный червячок белой золы. Энджи столкнула окурок с края внутрь пепельницы. — Мы согласны, что Сыр сознавал угрозу, исходившую от Маллена и Гутиерреса. Что, если ему казалось, что от них надо избавиться? И что, если то, что он имел на Бруссарда, было настолько серьезно, что подтолкнуло его к этому?
— Подтолкнуло к этому Бруссарда?
Она кивнула.
Раерсон откинулся на спинку дивана и посмотрел на темные чугунные колонны здания на углу Саус-стрит. У него за плечом на Ниланд-стрит разыгрывалась обычная городская сценка: грузовичок с коричневым закрытым кузовом Единой службы доставки посылок с горящим проблесковым маячком и работающим двигателем перегородил переулок. Водитель открыл дверь кузова, спустил на землю двухколесную тележку и погрузил на нее стопкой несколько коробок.
— Итак, — сказал Раерсон, обращаясь к Энджи, — ваша рабочая теория состоит в том, что, пока Сыр думал, что держит под колпаком Маллена и Гутиерреса, Бруссард держал под колпаком всех троих.
— Может быть, — сказала она. — Может быть. У нас есть данные, что Маллен и Гутиеррес собирались в тот вечер забрать у карьера наркотики.
Водитель почтового грузовика пробежал мимо окон, толкая перед собой тележку, и я подумал, что, оказывается, почту развозят так поздно. Может быть, в юридической фирме жгут в светильниках масло, готовясь к заседанию суда по какому-нибудь громкому делу. Может быть, в типографии спешат выполнить заказ к сроку. Или компьютерная фирма занимается чем-то высокотехнологичным, чем положено заниматься высокотехнологичным компьютерным фирмам, когда все нормальные люди готовятся отойти ко сну.
— Но опять-таки, — сказал Раерсон, — мы все время возвращаемся к мотиву. Допустим, Сыр узнал, что девочку похитил Бруссард. Чудесно. Но зачем Бруссарду ее похищать? Что он думал, идя в тот вечер к дому, чтобы забрать у матери ребенка, которого никогда в жизни не видел? Как-то не вяжется.
Парень из почтовой службы пробежал в обратную сторону. На этот раз под мышкой он держал планшетик с зажимом и двигался быстрее, поскольку тележка освободилась.
— И еще, — сказал Раерсон. — Допустим, что полицейский, имеющий награды и работающий в подразделении, занимающемся поиском пропавших детей, совершит такой безумный, ничем не мотивированный поступок. И как он будет действовать? Будет в свободное время следить за домом, дождется ухода матери, откуда-то зная, что она оставит дверь незапертой? Это нелепость.
— И все же вы думаете, что именно это и произошло, — сказала Энджи.
— В глубине души — да. Я знаю, что девочку забрал Бруссард. Но понять зачем — не могу, хоть убейте.
Почтовый служащий запрыгнул в грузовик, проехал мимо окна и, свернув налево в переулок, пропал из виду.
— Патрик.
— А?
— Ты все еще с нами?
— С криминальным прошлым не получишь.
Энджи прикоснулась к моей руке.
— Что это ты сейчас сказал?
Я даже не заметил, что произнес это вслух.
— С криминальным прошлым работу водителя почтового грузовика не получишь.
Раерсон моргнул и озабоченно посмотрел на меня, видимо прикидывая, где бы достать термометр, чтобы измерить мне явно повышенную температуру.
— Вы о чем, черт возьми, говорите?
Я снова посмотрел на Ниланд-стрит, на Раерсона и Энджи.
— Помнишь, в первый день у нас в офисе Лайонел рассказывал, что у него был какой-то эпизод с полицией, что один раз очень его жестко задержали, а потом он взялся за ум.
— И что? — сказала Энджи.
— Ну, раз был эпизод, значит, осталась запись. А раз осталась запись, как он мог получить работу в Единой службе доставки посылок?
— Я что-то не вижу тут… — начал было Раерсон.
— Ш-ш-ш. — Энджи подняла руку и посмотрела мне в глаза. — Ты думаешь, Лайонел…
Я поерзал на сиденье и оттолкнул от себя чашку с остывшим кофе.
— Кто может беспрепятственно войти в квартиру Хелен? Кто может открыть дверь в нее ключом? С кем Аманда охотно ушла бы без крика и шума?
— Но он сам пришел к нам.
— Нет, — сказал я. — Его жена привела. А он все повторял: «Спасибо, что выслушали нас», и так далее, и тому подобное. Готовился отделаться от нас. Это Беатрис настояла на нашем участии. Что она говорила у нас в офисе? «Никто не хотел, чтобы я сюда шла. Ни Хелен, ни муж». Только благодаря ее усилиям мы включились в это дело. А Лайонел — он свою сестру любит. Ладно. Но он что, слепой? Он же не дурак. Как же он мог не знать о том, что Хелен связана с Сыром? Как он мог не знать о ее зависимости от наркотиков? Да ради бога, он разыграл удивление, услышав, что она продавала кокаин. Я говорю со своей сестрой раз в неделю, вижу ее раз в год, но я бы знал, если бы она подсела на наркотики. Она же моя сестра.
— А о криминальном прошлом? — спросил Раерсон. — Какое это имеет отношение к делу?
— Допустим, его задержал Бруссард и потом держал на крючке. Лайонел был ему обязан. Кто знает?
— Но зачем Лайонелу похищать собственную племянницу?
Я стал думать об этом. Закрыл глаза, и перед моим мысленным взором предстал Лайонел. Это выражение лица, как у гончей собаки, печальные глаза, понурые могучие плечи, обремененные, казалось, тяжестью грехов целого города, уязвленное достоинство в голосе — голосе человека, который действительно не понимает, почему люди делают столько гадостей, почему так беззаботно относятся друг к другу. Я вновь услышал в его голосе неистовство вулкана и какой-то намек на ненависть в то утро, когда, узнав, что Хелен знакома с Сыром, Лайонел на кухне сорвался на сестру. Еще раньше он говорил нам, что Хелен любит дочь, что она хорошая мать. Но что, если он лгал? Что, если знал, что все как раз наоборот? Что, если о материнских качествах Хелен он был еще худшего мнения, чем Беатрис? Но сам он, будучи сыном алкоголиков и плохих родителей, еще с детства научился скрывать что следует, например свою ярость, ему пришлось этому научиться, чтобы стать гражданином и отцом.
— Что, если, — сказал я вслух, — Аманду Маккриди похитили не для того, чтобы ее эксплуатировать, растлевать или получить за нее выкуп? — Я встретил слегка скептический взгляд Раерсона, потом живой и заинтересованный Энджи. — Что, если ее похитили ради ее же блага?
— Думаете, Лайонел выкрал свою племянницу? — медленно, тщательно подбирая слова, проговорил Раерсон.
Я кивнул:
— Чтобы спасти ребенка.
— А Лайонел уехал, — сказала Беатрис.
— Уехал? — переспросил я. — Куда?
— В Северную Каролину, — ответила она и сделала шаг назад от двери. — Входите, пожалуйста.
Мы прошли следом за ней в гостиную. Мэтт, ее сын, поднял голову и посмотрел на нас. Он лежал посередине комнаты на животе и рисовал в блокноте несколькими ручками, карандашами и мелками. Это был симпатичный ребенок с унаследованным от отца едва уловимым намеком на характерные особенности гончей собаки в области челюстей, но без груза на плечах. Из-под густых черных бровей и копны волнистых волос смотрели такие же, как у матери, темно-синие глаза.
— Привет, Патрик. Привет, Энджи, — сказал мальчик и с интересом посмотрел на Нила Раерсона.
— Привет. — Раерсон присел рядом с ним на корточки. — Меня зовут Нил, а тебя как?
Мэтт не раздумывая пожал протянутую ему руку, посмотрел Раерсону в глаза с открытостью ребенка, которого научили взрослых уважать, а не бояться.
— Мэтт, — сказал он. — Мэтт Маккриди.
— Очень приятно, Мэтт. Что это ты рисуешь?
Мэтт развернул блокнот так, чтобы нам было удобно смотреть. Палочковидные фигурки разных цветов взбирались на машину длиной с коммерческий авиалайнер, в три раза превосходящую их высотой.
— Здорово. — Раерсон поднял брови. — Это что?
— Ребята пытаются поехать на машине, — сказал Мэтт.
— А что они внутрь не сядут? — спросил я.
— Она заперта, — сказал Мэтт, по-видимому полагая, что дает исчерпывающий ответ.
— Но они хотят попасть внутрь, да? — сказал Раерсон.
Мэтт кивнул.
— А потому что…
— Потому что, Мэтью, — поправила Беатрис.
Мэтт посмотрел на нее, засмущался, потом улыбнулся:
— Да. Потому что внутри телевизоры, и портативные игровые приставки, и гамбургеры. И… да, еще кока-кола.
Раерсон прикрыл ладонью улыбку.
— В общем, всякие хорошие вещи.
Мэтт улыбнулся ему:
— Точно.
— Ну, дерзай, — сказал Раерсон. — Хорошо выходит.
Мэтт кивнул и развернул блокнот к себе.
— Еще дома нарисую. Они тут нужны.
Он взял карандаш и повернулся к блокноту. Лицо стало собранным, и я подумал, что мы и все остальное для него просто перестало существовать, исчезло как во сне.
— Мистер Раерсон, — сказала Беатрис, — боюсь, нас еще не познакомили.
Ее маленькая рука скрылась в его длинной ладони.
— Нил Раерсон, мадам, из Министерства юстиции.
Беатрис взглянула на Мэтта и понизила голос:
— Так вы по поводу Аманды.
Раерсон пожал плечами:
— Хотели уточнить кое-что у вашего супруга.
— Что именно?
Перед уходом из «Вагона-ресторана» мы объясняли Раерсону, что меньше всего на свете хотелось бы вспугнуть Лайонела или Беатрис. Если она предупредит мужа о наших подозрениях, он может исчезнуть навсегда, а вместе с ним и сведения о том, где находится Аманда.
— Буду откровенен с вами, мадам. В министерстве существует отдел ювенальной юстиции и профилактики преступлений. Мы внимательно следим за работой Национального центра по розыску пропавших и эксплуатируемых детей, Национальной организации пропавших детей и их базами данных. Одним словом, делаем, что скажут.
— То есть прорыва в поисках нет? — Беатрис скомкала в жгут подол своей рубашки, зажала его в кулаке и снизу вверх посмотрела в лицо Раерсону.
— Нет, мадам, нет. Хотя я бы очень хотел, чтобы был. Как я уже говорил, речь идет о нескольких вопросах общего характера, ответы на которые нужны для базы данных. Поскольку ваш супруг оказался первым на месте происшествия в ночь исчезновения вашей племянницы, хотелось бы снова пройтись с ним по деталям. Возможно, он заметил что-то, какой-нибудь, скажем, пустяк, благодаря которому мы могли бы по-новому взглянуть на ситуацию в целом.
Беатрис кивнула, и я едва не поморщился оттого, как легко она поверила Раерсону.
— Лайонел помогает своему приятелю, тот торгует антиквариатом. Тед Кеннилли. Они с Лайонелом дружат со школы. У Теда в Саути магазин «Антиквариат Кеннилли». Примерно раз в месяц они ездят в Северную Каролину и забрасывают кое-какие вещи в Уилсон, есть там такой городок.
Раерсон кивнул.
— Центр торговли антиквариатом Северной Америки, да, мадам. — Он улыбнулся. — Я как раз из тех мест.
— Вот как? Могу я вам чем-нибудь помочь? Лайонел вернется только завтра днем.
— Конечно, конечно, можете. Задам вам несколько скучных вопросов. Не возражаете? Их вам уже, разумеется, тысячу раз задавали.
Она замотала головой.
— Нисколько не возражаю. Нисколько. Если это поможет делу, готова отвечать на вопросы хоть всю ночь. Слушайте, давайте-ка я чаю заварю.
— Было бы отлично, миссис Маккриди.
Мэтт раскрашивал свой рисунок, мы пили чай, а Раерсон задавал Беатрис один вопрос за другим. Ответы на них были давно известны. О родительском поведении Хелен, о вечере, когда обнаружилось исчезновение Аманды, и событиях нескольких сумасшедших дней непосредственно после него, когда Беатрис организовывала поиски, повсеместную расклейку объявлений с портретом племянницы и давала интервью журналистам.
Мэтт время от времени показывал нам, как продвигается работа над рисунком, в котором уже появились небоскребы с неровными рядами окон, облака и собаки.
Я стал жалеть, что мы сюда пришли. В этом доме я чувствовал себя соглядатаем, предателем, который надеется найти улики, чтобы усадить в тюрьму мужа Беатрис и отца Мэтта.
Уже незадолго до нашего ухода Мэтт спросил Энджи, нельзя ли ему расписаться у нее на гипсе.
— Конечно, — сказала она.
Глаза у Мэтта загорелись. Он еще с полминуты искал подходящую ручку, потом стал на колени и очень старательно стал выводить свое имя полностью. У меня заболело в глазах и на душе стало тяжело при мысли о том, во что мы превратим жизнь Мэтта, если наши подозрения о Лайонеле оправдаются, вмешается закон и парень будет расти без отца.
Но оставались соображения более важные, чем мой стыд.
Где она?
Где она, черт возьми?
Выйдя из дома, мы остановились возле «сабербана» Раерсона. Он достал сигару, снял с нее целлофановую оболочку, серебряными щипчиками откусил кончик и, собираясь раскурить, оглянулся на дом.
— Славная женщина.
— Да.
— Отличный парнишка.
— Да, отличный парнишка, верно, — согласился я.
— Жаль, — сказал он, поднес пламя к сигаре и несколько раз втянул в себя воздух, раскуривая ее.
— Да, жаль.
— Я намерен последить за магазином Теда Кеннилли. Это что, примерно в миле отсюда?
— Скорее в трех, — сказала Энджи.
— Черт, адрес забыл спросить.
— В Саути всего несколько антикварных лавок, — сказал я. — Магазин Кеннилли на Бродвее, напротив ресторана «Амрейнс».
Раерсон кивнул.
— Не хотите присоединиться? Теперь Бруссард с цепи сорвался, со мной вы оба будете в наибольшей безопасности.
— Конечно, — сказала Энджи.
Раерсон взглянул на меня:
— А вы, мистер Кензи, что скажете?
Я оглянулся на дом Беатрис, на освещенные желтым светом прямоугольники окон гостиной, подумал о тех, кто живет в этом доме, о набирающем силу уже закрутившимся над ними торнадо, о существовании которого они и не подозревают.
— Пока, ребята.
— Что стряслось? — Энджи настороженно посмотрела на меня.
— Пока, — сказал я. — Надо кое-что сделать.
— Что?
— Да ничего особенного. — Я положил руки на плечи Энджи. — Увидимся. Договорились? Пожалуйста. Дай мне сейчас свободу маневра.
Энджи внимательно посмотрела мне в глаза и кивнула. Конечно, ей это не понравилось, но она считалась с моим упрямством, как со своим собственным. Понимала, насколько бесполезно спорить со мной в определенных ситуациях. Точно так же я знал, что иногда не следует перечить ей.
— Глупостей не натворите, — сказал Раерсон.
— О нет, — сказал я. — Глупостей я не натворю.
Путь оказался неблизкий, но проделать его стоило.
В два часа ночи Бруссард, Паскуале и еще несколько игроков «защиты прав» вышли из «Бойна». По тому, как они обнимались на автостоянке, я заключил, что им стало известно о смерти Пула. Их душевная боль была неподдельной. Полицейские, как правило, обнимаются, только когда один из них погибает при исполнении служебных обязанностей. Потом, уже когда почти все разъехались, Паскуале и Бруссард поговорили еще на автостоянке, Паскуале напоследок крепко обнял Бруссарда, постучал кулаками по его широкой спине, и они расстались.
Паскуале уехал на «бронко», Бруссард же пошел осторожным шагом пьяного человека к своему «вольво» с универсальным кузовом, выехал задним ходом на Вестерн-авеню и повернул на восток. Машин на шоссе было мало, я старался держаться от него подальше и однажды чуть не потерял из виду, когда задние огни его машины вдруг пропали у Чарльз-ривер.
Я прибавил газу, потому что он мог свернуть на Сторроу-драйв и поехать короткой дорогой к Норф-бикон или свернуть на восток или запад по платной автостраде «Мэсс» на этой развилке.
Вытянув голову, я увидел «вольво», он как раз проскользнул освещенное фонарями место, направляясь к пунктам взимания платы с автомобилей, движущихся в западном направлении.
Я заставил себя сбавить скорость и проехал через контрольный пост примерно минуту спустя после Бруссарда. Примерно через две мили я снова заметил «вольво». Бруссард ехал по левой полосе со скоростью примерно сто километров в час. Я старался держаться метрах в ста позади него, двигаясь с той же скоростью.
По правилам бостонские полицейские должны жить в самом городе, но я знаю нескольких человек, которые обходят это требование, сдавая свои бостонские квартиры друзьям или родственникам, а сами живут на окраинах или за городом.
Бруссард, как выяснилось, жил довольно далеко. В дороге прошло больше часа, мы съехали с платной автострады на неосвещенную узкую проселочную дорогу и в конце концов оказались в городке Саттон, примостившемся в тени заповедника «Ущелье Чистилище» гораздо ближе к Род-Айленду и границе Коннектикута, чем к Бостону.
Бруссард свернул на крутой спуск к небольшому коричневому домику, типичному сельскому жилищу в Новой Англии, окна которого загораживали кусты и невысокие деревья. Я поехал дальше. Вскоре дорога уперлась в сосновый лес, и здесь я развернул машину. Лучи фар, освещая что-то вдали, пронизывали темноту, гораздо более густую, чем городская. Свет каждой, казалось, обещал выхватить из тьмы ночных животных, вышедших на поиски корма, и у меня всякий раз сердце замирало при виде их горящих зеленым глаз.
Я поехал обратно, нашел домик, и еще метров через сто после него в свете фар показался дом с окнами, закрытыми ставнями. Я поехал по дороге, усыпанной прошлогодней листвой, остановил «краун-викторию» за перелеском и посидел в ней немного. Слышно было только стрекотание цикад и шум ветра в голых кронах деревьев.
На следующее утро, едва проснувшись, я увидел два коричневых глаза, которые меня внимательно рассматривали. Взгляд их был мягким, печальным и глубоким, как шахты в медном руднике. Глаза не моргали.
Я слегка пошевелился. В это время белокоричневое рыло стало было склоняться к окну, но мое движение напугало любопытное животное. Я даже не успел понять, кого вижу, а олень пронесся по полянке к деревьям, его белый хвостик мелькнул между стволов и исчез.
— Господи, — сказал я вслух.
Тут мое внимание привлекло движение другого цветного пятна, на этот раз за деревьями прямо против ветрового стекла быстро двигалось что-то коричневое. В просвете между деревьями справа от меня мелькнул «вольво» Бруссарда. Я понятия не имел, поехал ли он за молоком или уже обратно в Бостон, но в любом случае открывшимися возможностями пренебречь было нельзя.
Я достал из бардачка набор отмычек, перекинул через плечо ремешок камеры, вышел из машины и пошел по мягкой земле обочины. Это был первый теплый день в году, солнце светило с неба, такого голубого и свободного от смога, что мне с трудом удалось убедить себя, что я все еще в Массачусетсе.
Я подходил к дороге, по которой проехала машина Бруссарда. В это время из молодого сосняка на обочину дороги вышла, держа за руку ребенка, высокая худая женщина в красно-белой ковбойке, синих джинсах и с длинными темными волосами. Оба они наклонились, ребенок подобрал газету, оставленную на краю шоссе, и отдал женщине.
Я оказался слишком близко и просто так уйти уже не мог. Прикрыв глаза ладонью от солнца, женщина посмотрела в мою сторону и неопределенно мне улыбнулась. Ребенку, державшему ее за руку, было года три, светлые волосы и бледная кожа были совсем не такие, как у нее или Бруссарда.
— Здрасте, — сказала она, подняла ребенка и пристроила себе на талии.
Малыш стал сосать палец.
— Здрасте.
Такая внешность легко запоминается. Крупный рот располагался у нее на лице не совсем правильно, на одной стороне лица он был несколько выше, чем на другой, и в этой асимметрии угадывалась усмешка, которая сразу рассеивала все иллюзии. На первый взгляд, по форме губ и скул, по рдеющему, как заря, румянцу, ее можно было бы принять за бывшую модель, за трофейную жену какого-нибудь финансиста. Я посмотрел ей в глаза. Их жесткий нагой интеллект меня встревожил. Такая женщина не позволит водить себя под руку напоказ, более того, вообще не позволит собой распоряжаться.
Она заметила фотокамеру.
— Птичек фотографируете?
Я посмотрел на камеру и покачал головой.
— Вообще природу. В наших местах такой красоты не увидишь.
— Вы из Бостона?
Я покачал головой:
— Из Провиденса.
Она кивнула, взглянула на газету и стряхнула с нее росу.
— Раньше клали в пластиковые пакетики, чтобы не промокали, — сказала она. — А теперь приходится час в ванной сушить, чтобы первую страницу почитать.
Мальчик, которого она держала на руках, сонно склонил голову ей на грудь и уставился на меня голубыми и чистыми, как небо, глазами.
— Что, милый? — Женщина поцеловала его в головку. — Устал? — Она погладила полноватое личико, и любовь, эту страшную силу, в ее глазах невозможно было не заметить. Она снова перевела взгляд на меня, ласковое выражение глаз пропало, и его место заняли, как мне показалось, подозрение и страх.
— Вон там лес. — Она показала вдоль дороги. — Вон прямо там. Это часть заповедника «Ущелье Чистилище». Там наверняка найдете что снимать.
Я кивнул.
— Почему бы и нет? Спасибо за совет.
Возможно, ребенок что-то почувствовал, а может быть, просто устал. Он широко разинул рот и заплакал. Может быть, был просто мал, а для маленьких детей плакать — дело обычное.
— Ох-хо-хо. — Она улыбнулась, снова поцеловала белокурую головку и поудобней пристроила его у себя на руках. — Все хорошо, Ники, все хорошо. Не надо плакать. Сейчас мама даст тебе попить.
Она обернулась в сторону дороги, шедшей по крутому склону, и, время от времени подтягивая сползавшего ребенка и поглаживая ему лицо, пошла шагом танцовщицы.
— Желаю вам красивые места найти! — крикнула она через плечо.
— Спасибо.
Женщина дошла до поворота и скрылась из виду за деревьями, закрывавшими большую часть дома со стороны дороги.
Но я по-прежнему слышал ее голос.
— Не плачь, Ники. Мама же тебя любит. Сейчас мама тебе все даст.
— У него есть сын, — сказал Раерсон. — И что с того?
— Я узнал об этом впервые, — сказал я.
— Я тоже, — сказала Энджи, — а в прошлом октябре мы много с ним общались.
— А у меня есть собака, — сказал Раерсон. — Вы впервые об этом слышите. Верно?
— Мы с вами только вчера познакомились, — сказала Энджи. — И собака — это вам не ребенок. У вас есть сын, во время наблюдения вы подолгу общаетесь с другими людьми, естественно, упоминаете о нем. Он говорил о жене. Ничего особенного, просто «Надо позвонить жене», «Жена меня убьет, я опять к обеду опаздываю». И так далее. Но о ребенке ни слова. Ни разу.
Раерсон взглянул на меня в зеркало заднего вида.
— Что думаете?
— Думаю, это странно. Можно позвонить?
Он передал мне телефон. Я набрал номер, посмотрел на антикварный магазин Теда Кеннилли с вывешенной в витрине табличкой «Закрыто».
— Детектив сержант Ли, — послышался голос в трубке.
— Оскар, — сказал я.
— Привет, Уолтер Пейтон![57] Как самочувствие после вчерашнего?
— Болит, — сказал я, — везде.
— Ну а другое как? — спросил он более серьезно.
— Вот у меня тут как раз к тебе вопрос.
— Хочешь, чтоб на товарищей тебе стучал?
— Не обязательно.
— Валяй, спрашивай. А там посмотрим, понравится мне твой вопрос или нет.
— Бруссард ведь женат, так?
— Да. На Рейчел.
— Высокая брюнетка, — сказал я. — Очень красивая.
— Да, это она.
— И у них есть ребенок.
— Как-как?
— У Бруссарда есть сын?
— Нет.
Голова у меня закружилась и стала очень легкой, а боли после вчерашнего матча вдруг прошли.
— Ты уверен?
— Конечно, уверен. У них не может быть.
— У них не может быть или он решил не заводить?
Оскар перешел на шепот, и по тембру голоса в трубке я понял, что он прикрыл микрофон ладонью.
— Рейчел бесплодна. Для них это беда. Они очень хотели детей.
— А усыновить?
— Кто ж позволит бывшей шлюхе усыновить ребенка?
— Так она шлюхой была?
— Да, на том они и познакомились. Он служил в «расследовании убийств», я тоже. Женитьба погубила его карьеру, его похоронили в «наркотиках», потом Дойл его оттуда вытащил. Но он ее любит. Хорошая женщина. Замечательная.
— Но бездетная.
Он убрал руку, закрывавшую микрофон трубки.
— Сколько раз тебе повторять, Кензи? Нет у них детей ни хрена.
Я поблагодарил, попрощался, разъединил линию и отдал телефон Раерсону.
— Нет у него сына, — сказал Раерсон, — так ведь?
— Есть, — сказал я. — У него определенно есть сын.
— Тогда где он его раздобыл?
И тут, пока мы, глядя на антикварный магазин Кеннилли, сидели в «сабербане» Раерсона, все стало на свои места.
— Кем бы ни были биологические мама с папой Николса Бруссарда, — сказал я, — в исполнении родительского долга они не очень-то преуспели. На что спорим?
— Срань господня! — сказала Энджи.
Раерсон навалился на руль, обратив худое лицо вперед и глядя сквозь ветровое стекло пустым изумленным взглядом.
— Срань господня! — сказал он.
Я снова увидел белокурого малыша на руках у Рейчел и выражение, с каким она гладила его личико.
— Да, — сказал я. — Срань господня.
Под вечер апрельского дня, когда солнце уже зашло, но еще не стемнело, город затихает и становится беспокойно-серым. Как всегда быстрее, чем ожидалось, закончился очередной день. В прямоугольниках окон домов и у решеток двигателей автомобилей появляются приглушенные желтые и оранжевые огни, с наступающей темнотой воздух становится все прохладней. Дети с улиц идут домой мыть руки перед ужином, включать телевизоры. В супермаркетах и магазинах, торгующих спиртным, полупусто, и жизнь там замирает. Цветочные магазины и банки закрыты. Изредка раздаются звуковые сигналы автомобилей. Грохочут опускаемые на ночь металлические жалюзи на витринах. Внимательно всмотревшись в лица пешеходов и водителей машин, стоящих у светофора, в их усталой неподвижности можно увидеть тяжесть несбывшихся обещаний утра. Лица проплывают мимо, люди идут или едут по домам, какими бы они ни были.
Лайонел и Тед Кеннилли возвратились поздно, почти к пяти часам дня. Увидев нас, Лайонел изменился в лице. Раерсон показал ему значок и сказал:
— Хотелось бы задать вам пару вопросов, мистер Маккриди. — При этом Лайонел изменился в лице еще сильнее.
Он несколько раз кивнул, скорее сам себе, чем нам, и сказал:
— Тут рядом — бар. Может, пойдем туда? Не хотелось бы дома.
Бар «Эдмунд Фицджералд» был мал настолько, насколько может быть мал бар, не превращаясь в ларек для чистки обуви. Слева от входа у единственного окна находилась стойка. Перед ней могло бы поместиться, может быть, четыре столика. К несчастью, сюда втиснули и музыкальный автомат, поэтому столиков было лишь два, и оба они, когда мы вошли, пустовали. У самой стойки могли бы расположиться семь, самое большее — восемь человек и шесть столиков. Помещение несколько расширялось в дальней от входа части, там двое метали дротики по мишени, висевшей над столом для бильярда, который стоял так близко к стенам, что для удара с трех сторон из четырех игроку пришлось бы воспользоваться коротким кием. Или карандашом.
Пока мы располагались за столиком посередине заведения, Лайонел сказал:
— Повредили ногу, мисс Дженнаро?
— Заживет, — сказала Энджи и стала искать в сумочке сигареты.
Лайонел взглянул на меня. Я отвернулся, и его плечи поникли еще сильнее: к каменным глыбам, отягощавшим их прежде, добавились еще и шлакоблоки.
Раерсон раскрыл перед собой на столе блокнот и снял колпачок с ручки.
— Я — специальный агент Нил Раерсон, мистер Маккриди. Работаю в Министерстве юстиции.
— Да, сэр, — сказал Лайонел.
Раерсон на мгновение оторвался от блокнота и посмотрел ему в лицо.
— Вы правильно поняли, мистер Маккриди. Я представляю федеральное правительство. Вам не кажется, что вы могли бы кое-что нам объяснить?
— Насчет чего? — Лайонел оглядел свои плечи, потом весь бар.
— Насчет вашей племянницы, — сказал я. — Слушайте, Лайонел, время засирать нам мозги прошло.
Он посмотрел направо в сторону стойки, как будто надеясь увидеть там кого-то, кто бы пришел ему на выручку.
— Мистер Маккриди, — сказал Раерсон, — мы можем, конечно, полчасика поиграть в «Нет-я-ничего-такого-не-делал/Нет-вы-сделали», но для каждого из нас это будет лишь пустой тратой времени. Мы знаем, что вы причастны к исчезновению вашей племянницы и что вы работали с Реми Бруссардом. Ему, кстати, это тоже не сойдет с рук, получит по первое число. Но сейчас речь о вас. Я предлагаю вам возможность расставить все по своим местам и, возможно, в дальнейшем получить некоторое снисхождение. — Он постучал по столу ручкой в ритме тикающих часов. — Будете дурить нам голову, я уйду, и по-хорошему у нас с вами не получится. Угодите в тюрьму на такой срок, что, когда выйдете, ваши внуки уже права на вождение автомобиля будут иметь.
Подошла официантка и приняла заказ: две кока-колы, минеральную воду для Раерсона и двойной скотч для Лайонела.
Ее возвращения мы ждали молча. Раерсон, как метроном, продолжал равномерно стучать ручкой по краю стола, твердо и бесстрастно глядя на Лайонела, который, по-видимому, этого взгляда не замечал и в мыслях унесся далеко и от стола, и от бара. Губы и подбородок у него поблескивали испариной. Мне показалось, что смотрел он внутрь себя, и его взгляд упирался в жалкий финал, в то, что он сейчас расскажет и чем разрушит свою жизнь. Он видел тюрьму. Видел доставляемые туда бумаги, необходимые для развода, свои возвращенные нераспечатанными письма к сыну. Видел десятилетие, переходящее в другое десятилетие своего одиночества наедине со стыдом, или свою вину, или просто человека, совершившего глупость, которую общество выставило под свет телевизионных софитов на всеобщее обозрение. Его фотографию опубликуют в газете, имя станет ассоциироваться с похищением детей, а жизнь — пищей для ток-шоу на телевидении, перемывания в бульварных газетках и ехидных шуток, которые будут помнить гораздо дольше тех, кто их придумал.
Официантка принесла наш заказ.
— Одиннадцать лет назад, — начал свой рассказ Лайонел, — мы с друзьями сидели в одном баре в центре города. Устроили холостяцкую попойку, все здорово набрались. Одному из нас очень захотелось подраться. В качестве противника он выбрал меня. Я его стукнул. Один раз, но он ударился об пол и раскроил себе череп. Штука в том, что я бил не кулаком. В руках у меня был кий.
— Нападение со смертоносным оружием, — вставила Энджи.
Лайонел кивнул:
— На самом деле даже хуже. Этот парень до меня докапывался, и я будто бы сказал — уж не помню, говорил я это или нет, но, наверное, мог сказать: «Отвали, убью».
— Покушение на убийство, — сказал я.
Он снова кивнул.
— Был суд. Друзья этого парня говорили одно, мои — другое, их слово против нашего. Я знал, что меня посадят, потому что этот тип — он учился в колледже — утверждал, что после мозговой травмы не сможет продолжать учебу, не сможет сосредоточиваться. Он нашел врачей, которые подтвердили повреждение мозга. По тому, как смотрел на меня судья, я видел, что мое дело — дрянь. Но в тот вечер в баре был еще парень не из нашей компании, который засвидетельствовал, что это пострадавший говорил, что убьет меня и что это он начал драку и так далее. Меня оправдали, потому что этот парень оказался полицейским.
— Бруссард.
Лайонел горько усмехнулся и отхлебнул скотча.
— Да. Бруссард. И знаете что? Он тогда лгал перед судом. Я, конечно, не мог помнить всего, что говорил мне тогда парень, которого я ударил, но я точно помню, что сам ударил его первым. Не знаю почему, но это правда. Достал он меня, гадости говорил в лицо, ну, я и… — Лайонел пожал плечами. — Я тогда совсем другой был.
— Значит, Бруссард солгал, вас оправдали, и вы чувствовали, что обязаны ему.
Лайонел поднял было стакан, но передумал и поставил обратно на подставку.
— Наверное. Бруссард никогда эту тему не затрагивал, и с годами мы с ним подружились. Сошлись, он звонил мне время от времени. Только задним числом я понял, что он внимательно за мной следит. Он такой. Не поймите меня неправильно, он хороший мужик, но всегда наблюдает за людьми, изучает их, прикидывает, не смогут ли они ему когда-нибудь пригодиться.
— Обычный полицейский, — сказал Раерсон и отпил минеральной воды.
— И вы такой?
Раерсон подумал и сказал:
— Наверное, да.
Лайонел еще отпил скотча и утер себе губы салфеткой для коктейля.
— В прошлом июле моя сестра и Дотти повезли Аманду на пляж. День был жаркий, безоблачный, Дотти и Хелен познакомились с какими-то мужиками, у которых, не знаю, была целая сумка марихуаны или чего-то такого. — Он посмотрел в сторону, сделал большой глоток скотча, и в лице и голосе, когда заговорил снова, появилась тоска. — Аманда заснула, а они… оставили ее на пляже, одну, без присмотра на несколько часов. Она обгорела, мистер Кензи, мисс Дженнаро. Всю спину себе сожгла и ноги, только что не обуглилась. Одна сторона лица так вздулась, будто осы искусали. Эта моя сестрица — б…, наркоманка, пьянь, кошелка для подмывания, полная дерьма, — позволила своей дочери изжариться. Привезли ребенка домой, и Хелен звонит мне. Я цитирую: «Аманда — такая дрянь». Видите ли, плачет не переставая. Не дает Хелен покоя. Я поехал к ним. Моя племянница, четырехлетняя девочка, вся горит. Ей больно. Она кричит от боли. И, знаете, что моя сестрица сделала? — Он замолчал, схватил стакан со скотчем, наклонил голову и несколько раз часто неглубоко вдохнул. Потом поднял голову. — Она пиво к ожогам приложила. Пиво. Чтобы охладить. Не алоэ, не лидокаин. О том, чтобы обратиться к врачу, даже не подумала. Отправила Аманду спать и включила телевизор погромче, чтобы ее не слышать. — Он поднес огромный кулак к уху, как будто собираясь стукнуть им по столу и расколоть его надвое. — В тот вечер я мог убить свою сестру. Но не убил. Повез Аманду в пункт оказания скорой помощи. Я выгородил Хелен. Сказал, что она вымоталась, и обе они, Хелен и Аманда, заснули на пляже. Долго уговаривал врача и наконец убедил не звонить в «Детское благополучие» и зарегистрировать этот случай как небрежность. Не знаю уж почему, но мне казалось, узнай они правду, забрали бы Аманду насовсем. Я просто… — Он сглотнул. — Я выгородил Хелен. Как выгораживал ее всю жизнь. В тот вечер я привез Аманду к нам, и она спала вместе со мной и Беатрис. Врач дал ей что-то, чтобы она смогла заснуть, но я не спал. Аманда была… Знаете — мне больше не с чем сравнить — как держать руку над мясом, только что вынутым из духовки. Я смотрел на нее, спящую, и думал: «Так дальше продолжаться не может. Надо положить этому конец».
— Но, Лайонел, — сказала Энджи, — если бы вы сообщили о Хелен в «Детское благополучие» достаточное число раз, я уверена, суд позволил бы вам с Беатрис удочерить Аманду.
Лайонел усмехнулся, а Раерсон, глядя на Энджи, медленно покачал головой.
— Что? — сказала она.
Раерсон откусил щипчиками кончик сигары.
— Мисс Дженнаро, лишить мать родительских прав можно только в таких штатах, как Юта и Алабама, при условии, что мать — лесбиянка. — Он закурил сигару и покачал головой. — От себя добавлю: это невозможно.
— Как же так? — возразила Энджи. — А если мать постоянно пренебрегает исполнением родительских обязанностей?
Раерсон снова грустно покачал головой:
— В этом году в Вашингтоне (округ Коламбия) одной женщине вернули все родительские права на ребенка, которого она, можно сказать, почти и не видела. Он с рождения жил у приемных родителей. Биологическая мать, осужденная уголовница, родила его, будучи на пробации[58] в связи с убийством другого своего ребенка, дожившего до зрелого возраста в шесть недель. Эта полуторамесячная девочка плакала от голода, и мамаша решила, что, пожалуй, хватит. Удушила ее, выкинула в мусорный бак и поехала на шашлыки. У этой же женщины есть еще двое детей, одного воспитывают родители отца, другого усыновила чужая семья. Все четверо детей от разных отцов. Мать, отбывшая всего год-другой срока за убийство дочери, теперь — не сомневаюсь, ответственно — воспитывает ребенка, забранного у любящих приемных родителей. Они обращались в суд, ходатайствуя о предоставлении им прав опекунов. Это, — закончил Раерсон, — невыдуманная история. Посмотрите в газетах.
— Чушь собачья, — сказала Энджи.
— Нет, это — правда, — сказал Раерсон.
— Как это может быть?.. — Руки Энджи, лежавшие на столе, соскользнули с него и повисли вдоль туловища, а взгляд устремился в пространство.
— Это — Америка, — сказал Раерсон, — где всякая взрослая женщина имеет полное и неотъемлемое право съесть своих отпрысков.
У Энджи был такой вид, будто ей дали под дых, а когда она согнулась вдвое, еще и надавали пощечин.
Застучали кубики льда в стакане у Лайонела.
— Агент Раерсон прав, мисс Дженнаро. Если никчемная мать не хочет расстаться с ребенком, ничего не поделаешь.
— Но это и вас не оправдывает, мистер Маккриди. — Раерсон указал сигарой на Лайонела. — Где ваша племянница?
Лайонел долго смотрел на пепел его сигары и наконец покачал головой.
Раерсон кивнул и что-то записал в блокнот. Потом потянулся за спину, достал наручники и бросил их на стол.
Лайонел привстал и стал отодвигать ногами стул.
— Сидите, мистер Маккриди. Иначе я положу на стол уже пистолет.
Лайонел сжал подлокотники стула, но так и не сел.
— Итак, вы рассердились на Хелен из-за ожогов Аманды. Что дальше?
Мы встретились глазами с Раерсоном, он утвердительно моргнул и слегка мне кивнул. Ответа на прямой вопрос о местонахождении Аманды мы не получили. Лайонел мог просто замолчать, взять всю вину на себя, и тогда мы бы ничего больше не узнали. Но если бы сделать так, чтобы он снова заговорил…
— Мой маршрут на работе в Единой службе доставки посылок проходит через участок Бруссарда. Вот так мы легко поддерживали связь все эти годы. Как бы то ни было…
Через неделю после того, как Аманда обгорела на солнце, Лайонел и Бруссард пошли вместе выпить. Лайонел рассказал о Хелен, о том, что с каждым днем он все больше и больше опасается, что Аманда вырастет такой же, как ее мать.
Выпивки было много, и за все платил только Бруссард. Уже под конец, когда Лайонел изрядно накачался, Бруссард обнял его и сказал:
— Ну а если бы существовал выход из положения?
— Нет никакого выхода, — сказал тогда Лайонел. — Суды…
— На хрен суды, — сказал Бруссард. — На хрен все твои соображения. Что, если бы была возможность дать девочке любящих родителей и дом, который стал бы для нее родным?
— Как?
— А так: никто никогда не узнает, что стало с Амандой. Ни ее мать, ни твоя жена, ни сын. Никто. Она исчезнет. — И Бруссард щелкнул пальцами. — Раз, и все. Как будто ее никогда и не было.
Лайонелу потребовалось несколько месяцев, чтобы свыкнуться с этой мыслью. За это время он дважды побывал в доме сестры и знал, что, когда Хелен уходит к Дотти, дверь остается незапертой, и Аманда спит одна в доме. В августе Лайонел и Беатрис жарили у себя на заднем дворе шашлыки. Заехали и Аманда с матерью, их подвез на своей машине какой-то приятель Хелен. Она до того набралась шнапса, что, качая Аманду и Мэтта на качелях, случайно столкнула с сиденья дочь, свалилась на сиденье сама и так и лежала, хохоча, пока Аманда поднималась с земли, отряхивала пыль с колен и осматривала себя, нет ли ссадин.
В течение лета обожженная на солнце кожа у Аманды местами покрывалась волдырями, на месте которых образовывались шрамики, поскольку Хелен иногда забывала прикладывать к ним лекарство, выписанное врачом в пункте скорой помощи.
И потом, уже в сентябре, Хелен заговорила о переезде из штата.
— Что? — сказал я. — Первый раз об этом слышу.
Лайонел пожал плечами:
— Сейчас, задним числом, мне кажется, это была очередная нелепая идея. Одна ее подруга переехала в Мертл-Бич в Южной Каролине, нашла там работу, стала продавать футболки в лавчонке. Писала Хелен, что там все время светит солнце, выпивка рекой течет, нет ни холода, ни снега. Сиди себе на пляже да знай себе продавай футболки. Примерно неделю Хелен только об этом и говорила. Я большей частью отмахивался. Она всегда любила поговорить о том, как хорошо было бы жить где-нибудь в другом месте. Ну, это, знаете, примерно в том же духе, что «Как было бы хорошо выиграть в лотерею!». Но на этот раз, уж не знаю почему, я запаниковал. Только и мог думать о том, что она заберет с собой Аманду. Будет оставлять ее одну на пляжах, в незапертых квартирах, и не будет там ни меня, ни Беатрис, чтобы в случае чего вмешаться и предотвратить беду. В общем… я совсем голову потерял. Позвонил Бруссарду. И познакомился с людьми, которые хотели забрать к себе Аманду.
— И звали этих людей?.. — Ручка Раерсона застыла над блокнотом.
Лайонел этот вопрос не заметил.
— Отличные. Идеальные люди. Чудесный дом. Любят детей. Одну девочку воспитали прекрасно, теперь она выросла, уехала, и им стало одиноко. И к Аманде относятся потрясающе, — добавил он тихо.
— Так вы ее видели, — сказал я.
Он кивнул.
— Она счастлива. Теперь даже улыбается. — У него перехватило горло, и он попытался проглотить помеху. — Она не знает, что я приезжаю и вижу ее. Первое правило Бруссарда — вся прежняя жизнь должна быть стерта и забыта. Аманде четыре. Со временем все забудет. На самом деле, — поправился он, — теперь ей уже пять, так ведь?
Мысль о том, что Аманда отпраздновала день рождения без его участия, тенью промелькнула по лицу Лайонела. Он отогнал ее.
— Как бы то ни было, я там бывал, незаметно подбирался, посмотрел на нее с новыми родителями. Выглядит она прекрасно. Выглядит… — Он прочистил горло и посмотрел в сторону. — Видно, что ее любят.
— Что было в ночь ее исчезновения? — спросил Раерсон.
— В дом я вошел через черный ход. Забрал ее. Сказал, что это такая игра. Она любила игры. Может, оттого, что Хелен собиралась пойти в бар, я сказал, что поиграем в игровые автоматы. — Лайонел взял губами из стакана кубик льда и разжевал его. — Бруссард сидел в машине на улице. Я ждал у подъезда, велел Аманде вести себя очень, очень тихо. Нас могла бы увидеть соседка напротив, миссис Дрисколл. Она сидела на крыльце через улицу от дома Хелен, но буквально на секунду ушла в дом налить себе чаю или зачем-то еще. Бруссард дал мне знак, что можно идти. Я донес Аманду до машины, и мы уехали.
— И никто ничего не видел, — сказал я.
— Из соседей — никто. Потом выяснилось, что видел Крис Маллен. Его машина стояла на той же улице, он вел наблюдение за домом. Ждал, когда вернется Хелен, хотел выяснить, где спрятаны украденные деньги. Он узнал Бруссарда. Сыр Оламон в дальнейшем использовал это, шантажировал Бруссарда, хотел с его помощью вернуть деньги. Кроме того, Бруссард должен был украсть какие-то наркотики из хранилища вещественных доказательств и в тот же вечер передать их у карьера Маллену.
— Но вернемся к вечеру исчезновения Аманды, — сказал я.
Лайонел толстыми пальцами достал из стакана второй кубик и разжевал его.
— Я сказал Аманде, что мой друг отвезет ее познакомиться с очень хорошими людьми, что мы с ней снова увидимся через несколько часов. Она только кивнула. Оставаться с незнакомыми людьми для нее было дело обычное. Мы проехали несколько кварталов, я вышел из машины и вернулся домой. Было половина одиннадцатого. Моя сестрица только через двенадцать часов заметила, что у нее дочь пропала. Вам это о чем-то говорит?
Некоторое время мы все молчали, слышно было только, как дротики ударяют в пробковую мишень в глубине бара.
— Я решил, что в подходящий момент расскажу Беатрис, — продолжал Лайонел, — и она поймет. Но не сразу. Через несколько лет, может быть. Не знаю. Я это до конца так и не решил. Беатрис ненавидит Хелен и очень любит Аманду, но такое дело… Понимаете, она уважает закон, все эти правила. Она, конечно, не согласилась бы на такое, но я надеялся, что, может быть, когда-нибудь, со временем… — Он посмотрел в потолок и слегка покачал головой. — Когда она решила вам звонить, я связался с Бруссардом. Он посоветовал ее отговорить, но мягко, не перегибая. Пусть, говорит, позвонит, если чувствует, что надо. А еще на следующий день он мне сказал, что, если запахнет жареным, у него на вас тоже кое-что имеется. Что-то там такое насчет убитого сутенера.
Раерсон посмотрел на меня, поднял бровь и улыбнулся, как бы говоря: «Так вон оно как?!»
Я пожал плечами и отвернулся. Тогда-то я и заметил человека в маске морячка Папая. Он проник в помещение бара через пожарный выход, в правой вытянутой руке на уровне груди, направив дуло горизонтально, он держал пистолет 45-го калибра.
Его напарник, вооруженный дробовиком, был в пластиковой маске Каспера, симпатичного призрака, какими пугают на Хеллоуин.
— Руки на стол! Все! Живо!
Папай гнал перед собой двух игравших в дротики. Я успел заметить, что дверь на улицу Каспер запер на засов.
— Ты! — крикнул мне Папай. — Что, глухой? Руки на стол, твою мать!
Я положил руки на стол.
— Ну, блин, — сказал бармен, — понеслось.
Каспер дернул шнур у окна, и тяжелая черная штора, опустившись, закрыла его.
Рядом со мной часто и поверхностно дышал Лайонел. Его прижатые к столу руки были совершенно неподвижны. Раерсон быстро сунул одну руку под стол. То же сделала и Энджи.
Папай ударил одного из игравших в дротики кулаком в спину.
— На пол! Руки за голову. Выполнять. Выполнять. Живо выполнять!
Оба игравших в дротики опустились на колени и стали закладывать руки за шею. Пучеглазый наблюдал за ними, слегка склонив голову набок. Момент был напряженный, сейчас могло произойти вообще все, что угодно, в том числе самое худшее. Папай был способен на все, что бы ни пришло ему в голову. Пристрелить игроков в дротики, нас, перерезать им глотки. Все, что угодно.
Он ударил ногой в поясницу более старшего из двоих.
— Не на колени, я сказал, мордой в пол. На брюхо. Живо.
Оба повалились на пол к моим ногам.
Пучеглазый медленно стал поворачиваться к нам.
— Руки на стол, черт возьми, — прошептал он. — Не то порешу всех на хрен.
Раерсон вытащил руку из-под стола, показал пустые ладони и положил их на стол. Энджи сделала то же.
Каспер подошел к стойке и навел дробовик на бармена.
У середины стойки прямо против Каспера сидели две средних лет женщины, судя по одежде офисные служащие или секретарши. Наводя на бармена дробовик, он задел прическу одной из них. Плечи ее напряглись, и голова дернулась влево. Ее спутница издала стон. Первая сказала:
— О господи! Ох, нет.
— Успокойтесь, дамочки, — сказал Каспер. — Через минутку-другую все это закончится. — Из кармана кожаной бомбардирской куртки он вытянул пустой зеленый пластиковый пакет для мусора и подтолкнул его по поверхности стойки к бармену.
— Наполняй. И не забудь про деньги в сейфе.
— Да там мелочь, — сказал бармен.
— Давай что есть, — сказал Каспер.
Папай, в обязанность которого, по-видимому, входило следить за находившимися в помещении, стоял метрах в трех-четырех от меня, широко расставив слегка согнутые в коленях ноги, и медленно водил пистолетом справа налево и обратно. Я слышал из-под маски его ровное дыхание. Каспер стоял в такой же позе, наставив дробовик на бармена, но смотрел в зеркало, находившееся за стойкой.
Грабители с самого момента появления действовали профессионально.
Помимо Каспера и Папая в баре находилось еще двенадцать человек: за стойкой бармен и официантка, двое на полу, Лайонел, Энджи, Раерсон, я, две секретарши и двое за стойкой рядом с выходом на улицу, судя по виду водители грузовиков. На одном была зеленая куртка от тренировочного костюма, на другом что-то холщовое и из джинсовой ткани, старое и на толстой подкладке. Оба были грузные и одинакового возраста, лет по сорок пять. На стойке перед ними между двух стопок стояла бутылка дешевого виски «Оулд Томпсон».
— Не спеши, — сказал Каспер бармену. Тот стоял на коленях за стойкой и, как я понимал, возился с сейфом. — Не торопись, как будто ничего не случилось, циферки набирай правильно.
— Пожалуйста, отпустите нас, — сказал один из лежавших на полу. — У нас семьи.
— Заткнись, — сказал Папай.
— Никто не пострадает, — сказал Каспер. — Лежи тихо. Просто тихо себе лежи, и все. Все ведь просто.
— Знаете, чей это бар-то, вашу мать? — спросил тот, что был в куртке от тренировочного костюма.
— Что? — сказал Папай.
— Все ты прекрасно слышал. Знаешь, чей это бар?
— Пожалуйста, пожалуйста, — сказала одна из секретарш, — молчите.
Каспер повернул голову:
— Герой.
— Герой, — согласился Папай и взглянул на идиота.
Практически не шевеля губами, Раерсон прошептал:
— Где твой?
— На пояснице, — сказал я. — А твой?
— На коленях. — И передвинул правую руку на три дюйма к краю стола.
— Нет, — шепнул я как раз в тот момент, когда голова Пучеглазого стала поворачиваться к нам.
— Все. Вы, ребята, считай, покойники, — сказал водитель грузовика.
— Зачем вы говорите с ними, — сказала все та же секретарша, глядя на стойку перед собой.
— Хороший вопрос, — заметил Каспер.
— Покойники. Ты понял? Подонки гребаные. Придурки недоделанные. Уроды…
Каспер сделал четыре шага и ударил водителя кулаком в нос.
Водитель, сидевший откинувшись на спинку высокого стула, упал на пол и с треском ударился о него затылком.
— Какие-нибудь комментарии будут? — спросил Каспер другого водителя.
— Нет, — сказал парень и потупился.
— У кого-нибудь еще? — спросил Каспер.
Из-за стойки вышел бармен и положил на нее мешок.
В баре стало тихо, как в церкви перед крещением.
— Что? — сказал Папай и сделал три шага к нашему столу.
Мне потребовался всего миг, чтобы понять, что он обращается к нам, и еще один, чтобы перестать сомневаться в том, что вот-вот все примет наихудший оборот.
Никто из нас не шелохнулся.
— Что ты только что сказал? — Папай навел пистолет на голову Лайонела, глаза под маской скользнули по невозмутимому лицу Раерсона и вернулись к Лайонелу.
— Еще один герой? — Каспер взял сумку со стойки, подошел к нашему столу и приставил ствол дробовика мне к затылку.
— Выступает, — сказал Папай. — Херню несет.
— Хочешь что-то сказать? — спросил Каспер и наставил дробовик на Лайонела.
— Ну, говори, не стесняйся. — Каспер повернулся к Папаю: — Прикрой пока остальных троих.
Дуло калибра 11,43 миллиметра обратилось в мою сторону, и его черный глаз заглянул в мои.
Каспер сделал еще шаг к Лайонелу:
— Давай, погавкай. А?
— Зачем вы их провоцируете? Они же вооружены, — сказала одна секретарша.
— Просто сидите тихо, — прошипела ее спутница.
Лайонел — губы плотно сжаты, пальцы как будто пытаются проделать дыру в столе — взглянул снизу вверх на лицо в маске.
— Ну давай, здоровяк, попробуй, — сказал Каспер. — Попробуй. Поговори мне еще.
— Не буду я слушать эту херню, — сказал Папай.
Каспер приставил дуло дробовика Лайонелу к переносице:
— Заткнись!
Пальцы Лайонела задрожали, и он моргнул из-за капли пота, стекшей ему в глаз.
— Да он слушать не желает, — сказал Папай. — Просто хочет и дальше херню нести.
— Так, что ли? — спросил Каспер.
— Всем сохранять спокойствие, — сказал бармен, стоявший с поднятыми руками.
Лайонел ничего не сказал.
Но все присутствовавшие в баре, пребывавшие в состоянии душевного смятения и уверенные в неминуемой смерти, запомнят то, что грабители хотели вбить им в головы: то есть что Лайонел что-то говорил. Что все мы за своим столом что-то говорили. Что мы сами спровоцировали грабителей, которые были и без того на взводе, и они нас за это убили.
Каспер передернул затвор дробовика, и этот лязг показался нам выстрелом из пушки.
— Должен вести себя, как большой человек. Верно?
Лайонел открыл рот и сказал:
— Пожалуйста.
— Стойте, — сказал я.
Дула дробовика обратились ко мне, я не сомневался, что их темный просвет станет моим последним впечатлением в этой жизни.
— Детектив Реми Бруссард, — заорал я так, чтобы все в баре услышали. — Все расслышали это имя? Реми Бруссард! — Я взглянул в глубоко спрятанные под маской голубые глаза и прочел в них страх и смятение.
— Не делайте этого, Бруссард, — сказала Энджи.
— Заткнись, твою мать! — На этот раз это был Папай, но хладнокровие изменило ему. Он должен был прикрывать напарника, следить за сидевшими за нашим столом, но у него свело судорогой мышцы предплечья.
— Все кончено, Бруссард. Все кончено. Мы знаем, что это вы похитили Аманду Маккриди. — Я вытянул шею и посмотрел в сторону стойки. — Все расслышали имя? Аманда Маккриди.
Я повернулся обратно, и мне в лоб уперлись холодные дула дробовика, а перед глазами возник изогнутый красный палец, лежавший на спуске. С такого расстояния он казался похожим на насекомое или красно-белого червяка. Можно было подумать, что он наделен сознанием и двигается по собственной воле.
— Закрой глаза, — сказал Каспер. — Крепко закрой.
— Мистер Бруссард, — сказал Лайонел. — Пожалуйста, не делайте этого. Пожалуйста.
— Жми на спуск, твою мать, — бросил своему напарнику Папай. — Жми давай.
— Бруссард… — начала было Энджи.
— Хватит твердить! Заладили, Бруссард, Бруссард, — сказал Папай и отбросил стул ногой в стену.
Сидя с открытыми глазами, я кожей чувствовал цилиндрическую поверхность дула, запах оружейного масла и сгоревшего пороха и следил за лежавшим на спуске пальцем.
— Все кончено, — повторил я, и эти слова, пройдя через пересохшее горло и рот, прозвучали как нечленораздельный стон. — Все кончено.
Наступила долгая томительная тишина, во время которой, казалось, был слышен скрип оси, вокруг которой вращается земля.
Каспер опустил, а Бруссард склонил голову набок, и в его глазах я увидел то же, что было вчера во время матча, — взгляд твердый, горящий, с пляшущими в нем искрами.
Ему на смену пришло смиренное осознание поражения. По всему телу пробежала дрожь, палец соскользнул со спуска, и ствол дробовика опустился.
— Да, — тихо сказал он. — Кончено.
— Что мозги мне е…?! — сказал его напарник. — Надо это сделать. Надо, понимаешь. У нас же приказ. Ну, давай. Живо!
Бруссард покачал головой, а вместе с нею и маской с апатичным детским выражением:
— Кончено. Уходим.
— Да пошел ты! Кончено! Не можешь пришить этих мудаков? Дерьмо ты после этого! Зато я могу.
Папай поднял руку, навел пистолет в лицо Лайонелу. Раерсон уронил руку на колени, и первый приглушенный выстрел прозвучал из-под стола. Пуля прошла через левое бедро Папая.
Он стал падать на спину, выронил пистолет, а Лайонел вскрикнул, одной рукой схватился за голову и повалился со стула.
Раерсон выхватил пистолет из-под стола и дважды выстрелил в грудь Папаю.
Бруссард нажал на спуск дробовика, и я успел разобрать паузу — микросекунду от момента удара бойка по капсюлю до взрыва пороха в гильзе, адским грохотом отозвавшегося у меня в ушах.
Левое плечо Нила Раерсона исчезло во вспышке пламени, распыленной крови и кости, просто растаяло в воздухе, взорвалось, испарилось одновременно с хлопком выстрела. Сгусток с влажным хлюпаньем ударил в стену, тело Раерсона стало валиться со стула. В клубах дыма стволы дробовика в руках Бруссарда обратились к потолку, а стол вместе с Раерсоном упали влево. Пистолет выпал у него из руки, отскочил от стула и стукнулся об пол.
Энджи успела достать из-под стола пистолет и рыбкой нырнула влево. Бруссард стал разворачиваться к ней, но я с разгона ударил его головой в живот, обхватил, потащил в сторону стойки и ударил позвоночником о поручень. Он крякнул от удара, но тут же приставил дула дробовика мне к затылку.
Я упал коленями на пол, руки разомкнулись и отпустили его, Энджи вскрикнула:
— Бруссард! — и выстрелила.
Пока я доставал пистолет, он бросил в нее дробовик, попал в грудь, удар сбил ее с ног.
Бруссард перепрыгнул через лежавших на полу игроков в дротики и, как прирожденный атлет, бросился к выходу на улицу.
Он приближался к двери. Я закрыл левый глаз, прицелился и дважды в него выстрелил. Правая нога у него дернулась и поехала по полу в сторону, но он успел добежать до угла, открыть засов и выскочить в темноту.
— Энджи!
Я посмотрел в ее сторону. Она поднялась и села среди валявшихся стульев.
— Ничего.
— Вызовите «скорую»! Вызовите «скорую»! — кричал Раерсон.
Я взглянул на Лайонела. Он, мыча от боли, катался по полу, держась руками за голову. Из-под пальцев лила кровь.
Я посмотрел на бармена:
— «Скорую»!
Он снял трубку и набрал номер.
Раерсон прислонился спиной к стене и, задрав голову, кричал в потолок. Тело его судорожно дергалось, большей части плеча на месте не было.
— Сейчас наступит болевой шок, — сказал я Энджи.
— Им займусь я, — сказала она и поползла к Раерсону. — Все полотенца, какие тут только есть, все — мне, живо!
Одна из секретарш перепрыгнула через стойку бара.
— Беатрис! — взвыл Лайонел. — Беатрис!
Две пули, выпущенные Раерсоном, вошли Папаю в грудину, он лежал возле стойки. Резиновая лента, державшая маску на голове, лопнула. Я посмотрел в лицо убитому Джону Паскуале. Слова, сказанные им накануне после матча оказались пророческими: всякому везению приходит конец.
Секретарша бросила из-за стойки полотенце. Энджи поймала его, и в этот момент мы встретились с ней глазами.
— Догони Бруссарда, Патрик. Догони его.
Я кивнул. Подбежала секретарша, опустилась на пол возле Лайонела и приложила полотенце ему к голове.
Я поискал в кармане вторую обойму, нащупал ее и выбежал из бара.
Я бросился за Бруссардом через Бродвей и вверх по Си-стрит. Отсюда он свернул в квартал грузовиков и складов, тянувшийся вдоль Второй Восточной. Идти по следу было несложно. Едва выйдя из бара, он сбросил маску, и она лежала у дверей на тротуаре, глядя на меня с беззубой улыбкой пустыми отверстиями для глаз. Свежие капли крови, сверкая в свете уличных фонарей и обозначая извилистый путь раненого, вели в слабо освещенные закоулки между складами, сложенными из растрескавшихся булыжников, мимо баров, посещаемых водителями грузовиков, с задернутыми шторами и небольшими светящимися вывесками, в которых не хватало половины лампочек. Чем дальше, тем кровавые пятна попадались чаще и становились крупнее. По разбитому асфальту улиц с грохотом проползали, покачиваясь, полуприцепы, направлявшиеся в Буффало и Трентон, при свете их огней я рассмотрел место, где Бруссард остановился возле двери, которую, видимо, взломал. Сочившаяся из раны кровь исчертила ее тонкими подтеками, а на асфальте образовала небольшую лужицу. Я не ожидал, что рана в ноге может так сильно кровоточить, но, может быть, я задел какую-то крупную артерию.
Я окинул взглядом семиэтажное здание, построенное, судя по шоколадно-коричневому кирпичу, в конце девятнадцатого или начале двадцатого века. Трава доставала здесь до окон первого этажа, заколоченных растрескавшимися досками. На некоторых из них красовались граффити. Помещение было достаточно велико, чтобы служить складом крупногабаритных товаров или мастерской по сборке машин.
Мастерская, решил я, и вошел. Первое, что удалось разобрать в слабом свете, проникавшем с улицы, был силуэт сборочного конвейера. Из-под потолка с шестиметровой высоты свисали блоки и крюки на цепях. Каждый формой напоминал согнутый палец и как бы манил: «Иди сюда». Сам конвейер и ролики, на которых двигалась его лента, отсутствовали, оставалась только рама, крепившаяся к полу болтами. Пол вокруг был свободен, все сколько-нибудь стоящее, что не демонтировали и не продали последние хозяева, давно растащили бродяги и дети.
Направо от меня железная лестница вела на второй этаж. Я стал медленно подниматься. Темнота не позволяла видеть кровавые следы, я напрягал зрение, пытаясь разглядеть дыры в проржавевших ступенях, и, делая очередной шаг, опасливо перехватывал перила, надеясь взяться за металл, а не за злую голодную крысу.
Постепенно глаза привыкли к темноте, и стало видно, что на втором этаже в высоком помещении тоже нет ничего, кроме нескольких перевернутых деревянных поддонов. Свет уличных фонарей проникал сюда через свинцовые рамы с выбитыми стеклами. Лестничные пролеты располагались на каждом этаже одинаково, параллельно друг другу, поэтому, чтобы попасть на следующий, мне пришлось повернуть налево и пройти вдоль стены метров пять. Там начинался следующий лестничный марш. Посмотрев на уходившие вверх высокие железные ступени, я увидел над ними более светлый прямоугольник.
В это время сверху донесся громкий скрип и удар. Видимо, открылась тяжелая стальная дверь и с размаху ударила по стене.
Перепрыгивая через ступеньку и несколько раз споткнувшись, я поднялся на третий этаж и добежал до следующего лестничного марша. Двигаться я стал чуть быстрее, ноги приноровились к размеру ступеней, я более или менее угадывал их положение в темноте.
На всех этажах было пусто. Чем выше я поднимался, тем больше света от центральной части города проникало в помещения через аркообразные окна во всю высоту стен. На лестнице было по-прежнему темно, лишь там, где она выходила на очередной этаж, виднелся более светлый прямоугольник. Последний марш вел на залитую лунным светом крышу.
— Эй, Патрик, на твоем месте я бы там и оставался, — послышался голос Бруссарда.
— Это почему?
Он кашлянул.
— У меня пушка нацелена на выход. Высунешь башку — мигом снесу.
— Вон как. — Я прислонился к перилам. Сверху повеяло свежим ночным воздухом, морем. — Что планируешь дальше делать? Вертолет для эвакуации вызовешь?
— Одного раза в жизни вполне достаточно. Нет, просто подумал, посижу тут маленько, на звезды погляжу. Мать твою, погано ты, брат, стреляешь, — прохрипел он.
Я взглянул на подчеркнутые лунным светом края люка, выводившего на крышу. Судя по голосу, Бруссард находился слева от него.
— Но тебя все-таки подстрелил, — сказал я.
— Рикошет зацепил, твою мать, — сказал он. — Как раз осколок плитки выковыриваю из лодыжки.
— Хочешь сказать, я попал в пол, а пол — в тебя?
— Вот именно. Кто был тот парень?
— Который?
— В баре с тобой сидел.
— Которого ты подстрелил?
— Да.
— Из Министерства юстиции.
— Иди ты! А я его за секретного агента принял. Такая спокуха на лице. Всадил три пули в Паскуале, как будто в тире упражняется. И хоть бы хны. Как увидел его за столом, сразу понял, ж… дело.
Он снова кашлянул. Я слушал. Закрыл глаза и слушал, как он кашляет и не может остановиться секунд двадцать. К тому времени я уже знал, что он метрах в десяти слева от выхода на крышу.
— Реми.
— Ну.
— Я поднимусь.
— А я тебе дырку в башке проделаю.
— Нет, не проделаешь.
— Да что ты!
— Да, вот так.
В ночном воздухе раздался хлопок выстрела, пуля ударила в стальной уголок, которым верхний пролет лестницы крепился к стене. Металл сверкнул, как будто об него чиркнули спичкой, я прижался к ступеням, пуля пролетела над головой, отскочила от металла еще раз и с тихим шипением вошла в стену слева от меня.
Я немного полежал. Сердце ухитрилось втиснуться в пищевод, и новое положение ему нисколько не понравилось. Оно забилось о его стенки, желая вернуться на прежнее место.
— Патрик.
— Ну.
— Ранен?
Я отжался от ступеней и, стоя на коленях, выпрямился.
— Нет.
— Я ж сказал: буду стрелять.
— Спасибо, что предупредил. Охренительно благородно с твоей стороны.
Снова послышался кашель, потом он с ревом выгнал из горла то, что отхаркнулось, и выплюнул.
— Какие-то странные звуки издаешь. Может, нездоровится тебе? — сказал я.
Он хрипло рассмеялся:
— Да и ты не очень здорово выглядел. Твоя напарница, старина, вот кто у вас хорошо стреляет.
— Осалила тебя?
— О да. Быстро избавила от привычки курить, вот как это называется.
Я прислонился спиной к перилам, поднял пистолет дулом в небо и стал очень медленно подниматься по ступеням.
— Лично я, — сказал Бруссард, — вряд ли смог бы ее подстрелить. Тебя — другое дело. Но ее… Не знаю. Способность стрелять в женщин… знаешь, такая черта не очень-то украсила бы мой некролог. Служащий департамента полиции Бостона, дважды удостоенный наград, любящий муж и отец, набиравший в среднем два-пятьдесят два в боулинг, мастерски стрелял баб. Чувствуешь? Как-то… неважно звучит, верно?
Я припал к пятой ступени сверху и несколько раз вздохнул. С крыши он меня не видел.
— Я ведь знаю, ты думаешь: «Реми, ты застрелил Роберту, всадил ей пулю в спину». И это правда. Но Роберта ведь не женщина. Понимаешь? Она… — Он вздохнул и затем кашлянул. — Ну, в общем, не знаю, что она такое. Но «женщина» к ней как-то не подходит.
Я выглянул на крышу и за мушкой пистолета увидел Бруссарда.
Он сидел, прислонившись спиной к вентиляционной шахте, задрав голову, и даже не смотрел в мою сторону. Вдали на фоне кобальтового неба стояли ярко подсвеченные прожекторами желтые, белые и голубые силуэты зданий центральной части города.
— Реми.
Он повернул ко мне голову, вытянул руку и навел на меня дуло «глока».
В таком положении мы провели некоторое время. Я толком не понимал, что будет дальше, он, видимо, тоже. Достаточно было одного неверного взгляда, непроизвольного подергивания пальца от избытка адреналина или от страха, и из огненной вспышки у отверстия дула вылетела бы пуля. Бруссард закрыл глаза от боли и с шипением втянул в себя ртом воздух. На его рубашке постепенно распускалась огромных размеров почка ярко-красной розы, медленно, неумолимо, необратимо раскрывая свои изящные лепестки.
Все еще целясь в меня и держа палец на спуске, он сказал:
— Чувствуешь себя так, как будто снимаешься в фильме с Джоном Ву?[59]
— Терпеть не могу фильмы с Джоном Ву.
— Да я тоже, — сказал он. — Я думал, я один такой.
Я слегка покачал головой.
— Все тот же затасканный Пекинпа,[60] только его эмоционального подтекста нет.
— Ты что, кинокритик?
Я натянуто улыбнулся.
— Я про любовь кино люблю, — сказал Бруссард.
— Что?
— Правда. — Мне было видно, как закатились глаза за мушкой наставленного на меня пистолета. — Понимаю, это странно. Может, оттого, что я полицейский, я смотрю эти фильмы со стрельбой и плююсь: «Во заливают». Понимаешь? Но поставь ты кассету с «Из Африки» или «Все о Еве» — меня от экрана не оторвешь.
— Просто сюрприз за сюрпризом, Бруссард.
— Да, я такой.
Держать пистолет в вытянутой руке так долго было тяжело. Если бы мы действительно собирались стрелять, с этим бы давно уже было покончено. Возможно, конечно, такие мысли как раз и посещают человека перед тем, как его застрелят. Я заметил усиливающуюся бледность его кожи. Выступивший пот скрыл серебряную проседь у него на висках. Если он и мог еще сколько-то продержаться, то уже недолго. Мне это противостояние было тяжело, но у меня не сидела пуля в груди и осколки плитки в лодыжке.
— Я, пожалуй, опущу пистолет, — сказал я.
— Делай как знаешь.
Я следил за его взглядом, и, может быть, оттого, что он знал это, я не увидел в нем ровно ничего: просто непроницаемые, неподвижные глаза.
Я снял палец со спуска, поднял пистолет дулом вверх, зажал его в ладони и поднялся на оставшиеся несколько ступенек. Стоя на мелком гравии, которым была засыпана крыша, я посмотрел на Бруссарда сверху вниз и поднял бровь.
Он улыбнулся, опустил пистолет себе на колени и прислонился затылком к вентиляционной шахте.
— Ты заплатил Рею Ликански, чтобы он увел Хелен из дому в тот вечер, — сказал я. — Так?
Он пожал плечами.
— В этом не было необходимости. Обещал отпустить его при очередном аресте где-нибудь по дороге. Вот и все.
Я подошел и стал перед ним. Теперь мне был виден темный круг в верхней части груди, место, откуда разрастались розовые лепестки. Из пулевого отверстия чуть справа от грудины по-прежнему медленно, но заметно толчками вытекала кровь.
— Легкое? — спросил я.
— Да, задето, по-моему. — Он кивнул. — Маллен, сука! Не будь там в тот вечер Маллена, все бы прошло гладко. Ликански, хитрожопый, не сказал мне, что развел Оламона. Это в корне меняет дело, я же понимаю, поверь мне. — Он попробовал изменить позу и застонал. — Заставляет меня — меня, господи ты боже мой! — лечь в постель с такой дворнягой, как Сыр. Хоть я и подставлял его, старик, говорю тебе, это так уязвляет самолюбие!
— Где Ликански? — спросил я.
Он наклонил ко мне голову.
— Посмотри через правое плечо.
Я обернулся. Форт-Пойнт-ченнал начинался от белой, казавшейся в лунном свете пыльной полоски суши, пробегал под мостами, под улицами Летней и Конгресса и устремлялся к горизонту, к пирсам и темно-синему выходу из Бостонского залива.
— Рей спит с рыбками? — спросил я.
Бруссард лениво улыбнулся:
— Боюсь, что так.
— И давно?
— Я нашел его тем октябрьским вечером, сразу после того, как вы двое подключились к расследованию. Он собирал вещички. Я допросил его по поводу мошенничества с этими двумястами тысячами. Надо было сдать Ликански Сыру, он ведь так и не сказал мне, где деньги. Никогда не думал, что он может проявить такую твердость, но, по-видимому, есть люди, которым двести кусков придают мужества. Как бы то ни было, Ликански планировал уехать. Я этого не хотел. По-хорошему не вышло, пришлось приложить руки.
Он закашлялся, согнулся вдвое, прижав руку к ране в груди и стиснув пистолет, лежавший на коленях.
— Надо как-то спустить тебя вниз.
Он посмотрел на меня и кулаком той руки, в которой держал пистолет, утер губы.
— Кажется, я отсюда никуда не собирался.
— Брось. Умирать нет смысла.
Он посмотрел на меня со своей замечательной мальчишеской улыбкой.
— Как ни забавно, сейчас я готов с этим поспорить. Есть сотовый, вызвать «скорую»?
— Нет.
Он положил пистолет на колени, полез в карман кожаной куртки и достал тонкий телефон «нокиа».
— А у меня есть, — сказал он, повернулся и бросил его с крыши.
Было слышно, как через несколько секунд семью этажами ниже телефон ударился об асфальт.
— Не парься, — усмехнулся он. — У этой хреновины гарантия — закачаешься.
Я вздохнул и сел на залитую варом ступеньку лицом к нему.
— Решил умереть на крыше, — сказал я.
— Решил не сидеть в тюрьме. — Он покачал головой. — Суд? Я достоин лучшей участи, приятель.
— Тогда скажи мне, у кого она, Реми. Давай начистоту.
Он широко раскрыл глаза.
— Чтобы ты до нее добрался? Вернул этой сучонке, которую общество именует матерью? Поцелуй меня в задницу, старина. Аманду не найдут. Понял? Пусть живет счастливо. Ее будут хорошо кормить, содержать в чистоте, о ней будут заботиться. Она хоть несколько раз в жизни улыбнется, твою мать, у нее будет хоть какая-то надежда вырасти нормальным человеком. Так я тебе и сказал, где она! Раскатал губищу! Тебе, Кензи, операцию на мозге делать надо.
— Люди, у которых она находится, — похитители.
— Ах, нет! Неправильно. Похититель — я. А они всего лишь приютили ребенка. — Несмотря на то что стояла прохладная ночь, капля пота стекла со лба ему в глаз. Он несколько раз моргнул, стал медленно втягивать в себя воздух, и в груди у него захрипело.
— Ты утром был у моего дома. Мне жена звонила.
Я кивнул.
— Это она звонила Лайонелу с требованием выкупа?
Он пожал плечами и посмотрел вдаль.
— У моего дома! — сказал он. — Господи, ну ты меня и достал! — Он ненадолго закрыл глаза. — Видел моего сына?
— Он не твой.
Бруссард поморгал.
— Видел моего сына?
Я посмотрел на звездное небо, большую редкость в наших краях, такое ясное прохладной ночью.
— Я видел твоего сына, — сказал я.
— Отличный парень. Знаешь, где я его взял?
Я покачал головой.
— Говорю с этим стукачом из Сомервиля с глазу на глаз, слышу, малыш кричит. Кричит, говорю тебе, истошно, как будто на него собаки напали. Ни стукач, ни люди, которые ходят там по коридору, никто ничего не слышит. Просто не слышат крика. Потому что слышат его каждый день. Привыкли. Ну, я говорю стукачу: «Пошли», идем на крик, распахиваю ногой дверь в какую-то квартиру, там дерьмом воняет, и в глубине нахожу его. Больше никого нет. Мой сын, а это мой сын, Кензи, и пошел ты на х…, если думаешь иначе, есть хочет. Лежит в кроватке, шесть месяцев от роду, изголодался. Кожа да кости. Он, твою мать, наручниками пристегнут, Кензи, и подгузник так полон, что течет по швам, а само тело, твою мать, прилипло к матрасу, Кензи!
Бруссард выпучил глаза, вздрогнул и кашлянул кровью. Изо рта на рубашку потекло по подбородку. Он хотел вытереть, но только размазал.
— Малыш, — сказал он наконец почти шепотом, — прилип к матрасу пролежнями и испражнениями. Оставили в комнате на три дня, орал так, что чуть голову себе криком не снес. И всем плевать. — Он уронил окровавленную левую руку на гравий. — Всем плевать.
Я положил пистолет себе на колени и посмотрел на здания, силуэты которых виднелись на горизонте. Может быть, Бруссард и был прав. Целый город безразличных людей. Целый штат. Пожалуй, и вся страна.
— Ну, я забрал его к себе. Ребят, которые подделывали в свое время документы, я знал достаточно. Заплатил одному. У моего сына есть свидетельство о рождении, в нем значится моя фамилия. Медицинские документы жены о перетяжке фаллопиевых труб уничтожили, вместо них написали новые, в которых указано, что она согласилась на эту процедуру после рождения нашего сына, Николса. Так что оставалось только продержаться эти последние несколько месяцев и выйти на пенсию. Уехали бы из штата, нашел бы я себе какую-нибудь работенку для отставных вояк, типа консультанта по безопасности, и воспитывал бы ребенка. И был бы очень, очень счастлив.
Я посмотрел на свои ботинки.
— Она даже заявление о пропаже не подала, — сказал Бруссард.
— Кто?
— Наркоманка, биологическая мать моего сына. Даже не искала его. Я ее знаю. Долгое время подумывал снести ей башку просто для порядка. Не снес. И она даже не искала своего ребенка.
Я поднял голову и взглянул ему в лицо. В нем была и гордость, и гнев, и печаль от того, что ему довелось увидеть, заглянув в глубины нашей жизни.
— Мне нужна Аманда, — сказал я. — И все.
— Зачем?
— Работа у меня такая, Реми. Меня наняли, чтобы я ее нашел.
— А меня наняли, чтобы служить и защищать, мать твою. Ты понимаешь, что это значит? Я присягу давал. Служить и защищать. И я служил и защищал. И защитил нескольких детей. Я им служил. Благодаря мне у них теперь есть дом.
— Скольких? — спросил я. — Сколько их было?
Он погрозил мне окровавленным пальцем:
— Нет-нет-нет.
Голова его вдруг дернулась назад, и тело — он сидел прислонившись к вентиляционной шахте — напряглось. Левой пяткой он ударил в гравий, рот в беззвучном крике раскрылся.
Я бросился к нему и стал рядом на колени. Но что я мог поделать? Только наблюдать.
Через несколько секунд он расслабился, глаза закрылись, стало слышно дыхание.
— Реми.
Он с трудом открыл один глаз.
— Я пока тут, — невнятно проговорил он. И снова поднял все тот же палец. — Знаешь, Кензи, везучий ты, сукин сын.
— Почему?
Он улыбнулся.
— Не слышал?
— Что?
— Юджин Торрел умер на прошлой неделе.
— Кто это?.. — Я, слегка отстранившись, посмотрел на него. Улыбка стала шире, и я понял, кого он имел в виду: Юджина — того самого парнишку, который видел, как мы убили Мариона Сосиа.
— На нож налетел в Броктоне из-за какой-то бабы. — Бруссард снова закрыл глаза, улыбка померкла, сохранившись только на одной стороне лица. — Очень тебе повезло. Теперь ничего на тебя нет, кроме бесполезных показаний мертвеца-неудачника.
— Реми.
Глаза его широко раскрылись, пистолет выпал на гравий. Он было наклонил голову, собираясь поднять оружие, но рука так и осталась лежать на коленях.
— Давай, старина. Сделай что-нибудь перед смертью. На тебе немало чужой крови.
— Знаю, — с трудом проговорил он. — Кимми и Дэвид. Ты небось даже не подозревал.
— Мысль об этом донимала меня последние сутки, — сказал я. — Это вы с Пулом?
Он едва кивнул и снова прислонил затылок к вентиляционной шахте.
— Не с Пулом. С Паскуале. Пул не любил стрелять. Тут он черту провел и не переступал. Не оскорбляй его память.
— Но Паскуале ведь не было у карьера в тот вечер.
— Он рядом был. Кто, по-твоему, уложил Роговски в Каннингемском парке?
— Но Паскуале не успел бы оказаться по другую сторону карьера и убить Маллена и Гутиерреса.
Бруссард пожал плечами.
— Кстати, почему Паскуале было просто не убить Буббу?
Он нахмурился:
— Старина, мы убиваем только тех, кто представляет для нас непосредственную угрозу. Роговски ни хрена не знал, мы оставили ему жизнь. Ты — тоже. Думаешь, я не мог попасть в тебя с другой стороны карьера в тот вечер? Нет, Маллен и Гутиеррес представляли реальную угрозу. А также Малыш Дэвид, Ликански и, к сожалению, Кимми.
— Не забудь про Лайонела.
Бруссард нахмурился еще сильнее.
— Я не хотел убивать Лайонела. Никогда. Мне казалось, это будет плохая игра. Кое-кто испугался.
— Кто?
Бруссард коротко хрипло усмехнулся, на губах у него выступила кровь. Он закрыл глаза.
— Ты помни: Пул не любил стрелять. Не надо плохо о нем, о покойнике.
Возможно, Бруссард водил меня за нос, но — к чему? Если Фараона Гутиерреса и Криса Маллена убил не Пул, кое-что предстояло переосмыслить.
— А та кукла? — Я слегка похлопал его по руке, — и он открыл один глаз. — А лоскут футболки Аманды на стене карьера?
— Это — я. — Он облизал губы и закрыл глаз. — Я, я, я. Все я.
— Нет, для тебя это слишком. Черт, ты не настолько умен.
Он покачал головой:
— Ты это серьезно?
— Серьезно, — сказал я.
Он вдруг открыл оба глаза, взгляд был ясный и осмысленный.
— Подвинься-ка налево, Кензи. Дай взглянуть на город.
Я сделал, как он просил. Бруссард посмотрел на горизонт, улыбнулся огонькам, мерцающим на площадях, мигающим красным погодным буям и радиопередатчикам.
— Красиво, — сказал он. — Знаешь что?
— Что?
— Очень люблю детей, — сказал он так просто, так мягко.
Правая рука скользнула к моей и сжала ее. Перед нами лежал канал, протянувшийся от моря до центра города, и блеск его вод, темное бархатное обещание, жившее в его огоньках, приводило на ум мысли о светском лоске, о благополучном, сытом, безбедном существовании, отгороженном от неприглядности и боли грубой жизни стеклом и привилегиями, стенами из красного кирпича, железом и сталью, изогнутыми лестницами, водной гладью с мерцающей на ее поверхности дорожкой лунного света, неизменной водой, спокойно обтекающей острова и полуострова, на которых раскинулся наш огромный город.
— Красота, — шепнул Реми Бруссард и выпустил мою руку.
— …И в этот момент человек, в котором вы узнали Реми Бруссарда, ответил: «Мы должны это сделать. У нас же приказ. Давай живо». — Помощник окружного прокурора сняла очки и взялась двумя пальцами за кожу на переносице. — Я правильно изложила, мистер Кензи?
— Да, мадам.
— Обращайтесь ко мне «миссис Кэмбел». Будет в самый раз.
— Да, миссис Кэмбел.
Она снова водрузила на нос очки и взглянула на меня через тонкие овальные стекла.
— И что именно, по вашему мнению, это значило?
— По моему мнению, это значило, что кто-то отдал приказ детективу Паскуале и патрульному Бруссарду убить Лайонела Маккриди и, возможно, остальных, бывших с ним в баре «Эдмунд Фицджералд».
Помощник окружного прокурора пошуршала бумагами, которых — за шесть часов допроса в комнате 6а шестого квартального отделения полиции Бостона — набралось на половину блокнота. Шуршание этих страниц, стремившихся от ее яростного царапанья шариковой ручкой свернуться в трубочку, напомнило мне осенний шелест сухих листьев, сметенных ветром к бордюру тротуара.
Помимо нас с Адой Кэмбел в комнате находились два детектива по расследованию убийств, Джэнет Хэррис и Джозеф Сентауро, и ни той ни другому я нисколько не нравился. Еще присутствовал мой адвокат Чезвик Хартман.
Он некоторое время понаблюдал за тем, как Ада Кэмбел просматривает бумаги, и сказал:
— Миссис Кэмбел.
— Гм? — Она оторвалась от чтения.
— Я так понимаю, это случай особый, не сомневаюсь, он будет подробно освещаться журналистами. Мы, я и мой клиент, готовы к сотрудничеству с ними. Но… долгая выдалась ночь, вы не находите?
Помощник окружного прокурора с шелестом перевернула очередную страницу.
— Наш штат вовсе не заинтересован в том, мистер Хартман, чтобы ваш клиент недосыпал.
— Ну, штат может быть заинтересован в чем угодно, миссис Кэмбел, но мне важно, чтобы мой клиент мог выспаться.
Кэмбел положила ладонь на бумаги и взглянула на Хартмана.
— Что, по-вашему, я должна сейчас сделать, мистер Хартман?
— По-моему, вы должны выйти за дверь и переговорить с окружным прокурором Прескоттом и сказать ему, что суть происшествия в «Эдмунде Фицджералде» совершенно очевидна, что мой клиент действовал так, как действовал бы на его месте любой нормальный человек, и что он ни в коем случае не является подозреваемым ни в смерти детектива Паскуале, ни патрульного Бруссарда, и что давно пора отпустить его на все четыре стороны. Замечу также, миссис Кэмбел, что до настоящего момента мы оказывали всестороннюю помощь правосудию и намерены оказывать ее и впредь при условии, что вы проявите по отношению к нам естественное человеколюбие.
— Этот парень, мать вашу, полицейского пришил, — сказал детектив Сентауро. — И вы, адвокат, хотите, чтобы мы его вот так и отпустили? А коня шоколадного не желаете?
Чезвик сложил руки на столе, касаясь его обоими локтями, и, не обращая внимания на сказанное Сентауро, улыбнулся миссис Кэмбел:
— Мы ждем, миссис Кэмбел.
Та перевернула еще несколько листов своих записей, надеясь найти что-то, хотя бы что-нибудь, что дало бы основания меня задержать.
Чезвик находился в здании уже минут пять, пошел узнавать, как дела у Энджи. Я ждал на лестнице перед главным входом. Мимо меня сновали полицейские, и в их взглядах мне бы хотелось прочесть намерение не задерживать меня за превышение скорости на дорогах, хотя бы некоторое время. Может быть, до конца жизни.
— Ну что? — бросился я к Чезвику.
— Ее пока не отпускают.
— Почему?
Он посмотрел на меня, как на несмышленого надоедливого ребенка:
— Она полицейского убила, Патрик. В порядке самообороны или нет, но она убила полицейского.
— Ну, может, ты бы…
— Знаешь, кто в этом городе лучший юрист по уголовному праву?
— Знаю. Ты.
Он покачал головой:
— Моя младшая партнерша, Флорис Мэнсфилд. Она сейчас с Энджи. Понял? Так что остынь. Это потрясная женщина, Патрик. Понимаешь? С Энджи все будет хорошо. Но придется провести у них еще несколько часов. А если мы перегнем палку, окружной прокурор пошлет нас к черту и передаст дело расширенной коллегии присяжных, просто чтобы показать полицейским, что он на их стороне. А если же мы будем действовать согласованно, сотрудничать с ними, никого против себя не настраивая, все постепенно остынут, устанут и поймут, что чем скорее с этой историей покончить, тем лучше.
Мы шли по Бродвею, было четыре утра, ледяные пальцы темных апрельских ветров ощупывали нам воротники.
— Где твоя машина? — спросил Чезвик.
— На Джи-стрит.
Он кивнул.
— Домой тебе нельзя. Там собралась половина журналистской братии города, а я не хочу, чтобы ты с ними общался.
— А почему они не здесь? — Я взглянул на здание, где размещался участок.
— Дезинформация. Дежурный сержант специально якобы проговорился, что вас всех держат в управлении. Еще час-другой, они все поймут и рванут к тебе.
— Так куда же мне деваться?
— Вот это действительно хороший вопрос. Вы с Энджи, намеренно или непреднамеренно, только что подложили полиции Бостона большую свинью. Такой, пожалуй, не было со времен Чарльза Стюарта и Уилли Беннета.[61] Я бы на твоем месте переехал куда-нибудь из штата.
— Вот я и спрашиваю тебя: куда?
Он пожал плечами, нажал на кнопку тонкого пульта дистанционного управления, прикрепленного к брелоку с ключами от машины, его «лексус» подал звуковой сигнал, и замки на дверцах открылись.
— Ну и катись, — сказал я. — Поеду к Девину.
Голова Чезвика дернулась, будто от удара.
— К Амронклину? Совсем спятил? Хочешь поехать к полицейскому?
— В пасть зверя, — кивнул я.
В четыре утра большинство людей смотрит сны, но Девин бодрствует. Он редко спит больше трех-четырех часов в сутки, и обычно это уже ближе к полудню. В остальное время он либо работает, либо пьет.
Едва Девин открыл мне дверь своей квартиры в Лоуэр-Миллс, я по запаху определил, что он не работает.
— Мистер Знаменитость, — сказал он и повернулся ко мне спиной.
Я пошел за ним в гостиную, где на кофейном столике между бутылкой «Джека Дэниелса», полуопорожненной стопкой и пепельницей лежал раскрытый сборник кроссвордов. По телевизору показывали Бобби Дарина.[62]
На Девине под фланелевым халатом были брюки от тренировочного костюма и такая же куртка с надписью «Полицейская академия». Он сел на диван, запахнул халат, поднял стопку, отпил немного и уставился на меня снизу вверх. Глаза хоть и слегка остекленели, но взгляд был тверд, как, впрочем, и весь Девин.
— Стакан себе возьми на кухне.
— Пить сейчас как-то не хочется, — попробовал отказаться я.
— Я пью один только в одиночестве, Патрик.
Пришлось идти на кухню. Девин мне налил, пожалуй, даже многовато. Он поднял свою стопку.
— За убийства копов, — сказал он и выпил.
— Я не убивал никаких копов.
— Твоя напарница убила.
— Девин, — сказал я. — Прекрати сейчас же, или я пойду.
Он поднял стопку и указал ею в сторону прихожей:
— Дверь не заперта.
Я с размаху поставил стакан на кофейный столик, часть его содержимого выплеснулась, а я поднялся и пошел к двери.
— Патрик!
Уже взявшись за дверную ручку, я обернулся.
Мы оба молчали, был слышен только мягкий голос Дарина. Все то, что осталось невысказанным и неоспоренным в нашей с ним дружбе, висело между нами. Дарин пел о недостижимом, о несоответствии между тем, чего мы желаем, и тем, что имеем.
— Иди сюда, — сказал Девин.
— Зачем?
Он показал взглядом на кофейный столик, взял ручку со сборника кроссвордов, закрыл его, поставил на него недопитую стопку, посмотрел в сторону зашторенного окна, за которым, наверное, едва-едва начинало светлеть, и пожал плечами:
— Если не считать полицейских и моих сестер, вы с Энджи — мои единственные друзья.
Я вернулся к стулу и стер краем рукава разлитый бурбон.
— Все еще впереди, Девин.
Он кивнул.
— В «Фицджералде» Бруссард и Паскуале действовали по чьему-то приказу. Кто-то отдал приказ.
Девин налил себе еще виски.
— И ты, конечно, думаешь, что знаешь кто.
Я откинулся на спинку стула и чуть-чуть отпил. Крепкое спиртное мне никогда не нравилось.
— Бруссард сказал, что Пул не любил стрелять. Никогда. Я раньше думал, что это Пул пришил Маллена и Фараона, вынес деньги из карьеров и передал кому-то еще. Но кто такой этот «кто-то еще», я так и не мог понять.
— Какие деньги? Что ты несешь?
Следующие полчаса я объяснял ему какие.
Когда я закончил, он закурил сигарету и сказал:
— Бруссард похитил ребенка. Маллен оказался свидетелем. Оламон шантажирует Бруссарда, хочет, чтобы тот отыскал и вернул ему две сотни штук. Бруссард хитрит и привлекает кого-то, чтобы убрать Маллена и Гутиерреса, а также уронить в тюрьме Сыра. Так?
— Убийство Маллена и Гутиерреса предусматривалось сделкой с Сыром, — сказал я. — В остальном все так.
— И ты считал, что стрелял Пул.
— До этого эпизода на крыше. Эпизода с Бруссардом.
— Так кто же тогда стрелял?
— Ну, там ведь была не только стрельба. Кто-то должен был забрать деньги у Пула и пронести их через оцепление из ста пятидесяти полицейских. Такое не всякому по плечу. Надо быть большим начальником. Человеком вне подозрений.
Девин поднял руку:
— Э, погоди-ка. Если ты думаешь…
— Кто позволил Пулу и Бруссарду нарушить правила и обменять девочку на деньги без вмешательства федералов? Кто жизнь посвятил помощи детям, розыску детей, спасению детей? Кто разъезжал в тот вечер по холмам, — сказал я, — и находился одному богу известно где?
— Твою мать! — Девин хлебнул еще виски из стопки, проглотил и сморщился. — Джек Дойл? Так думаешь, это Джек Дойл?
— Да, Девин. Это как раз Джек Дойл.
— Твою мать! — повторил Девин. На самом деле он повторил это не раз и не два. После этого наступило долгое молчание, прерываемое лишь потрескиванием тающего льда в наших стаканах.
— До того как был создан отдел по борьбе с преступлениями против детей, — сказал Оскар, — Дойл служил в «нравах», сержантом. Бруссард и Паскуале были у него в подчинении. Он одобрил их перевод в «наркотики», а через несколько лет получил звание лейтенанта и взял их к себе. Это Дойл не позволил перевести Бруссарда инструктором в академию после его женитьбы на Рейчел. Начальство тогда стало на уши. Его вообще могли с дерьмом смешать, хотели, чтобы он ушел. Жениться на шлюхе в этом департаменте — все равно что признать себя гомосексуалистом.
Я взял сигарету из пачки Девина, закурил, в голове зашумело. Оскар пыхнул несколько раз сигарой, бросил ее в пепельницу и перевернул страницу стенографического блокнота.
— Все рекомендации, все приказы о перемещениях Бруссарда по службе, о наградах — все это подписано Дойлом. Дойл был для него господом богом. Для Паскуале тоже.
Наступил рассвет, но мы его не видели. В комнате с плотно занавешенными окнами по-прежнему витал смутный металлический дух глубокой ночи.
Девин поднялся с дивана, вынул из проигрывателя диск Синатры и поставил Дина Мартина.
— Хуже всего не то, — сказал Оскар, — что я мог участвовать в подкопе под полицейского, но то, что мог участвовать в подкопе под полицейского, слушая это дерьмо. Господи, поставь что-нибудь Лютера Эллисона или Тадж Махала,[63] что я тебе подарил на прошлое Рождество, что угодно, только не это. Черт, уж лучше то дерьмо, которое Кензи слушает, в исполнении этих белых тощих мальчиков, склонных к суициду. У них хоть какое-никакое сердце есть.
— Где живет Дойл? — Девин вернулся к кофейному столику и поднял кружку с чаем.
Дино запел «Ты никто, пока тебя никто не любит». Оскар нахмурился.
— Дойл? — переспросил он. — У него дом в Непонсет. Меньше километра отсюда. Хотя однажды я нагрянул к нему на шестидесятилетие в другой его дом в городке Уэст-Бекетт. Кензи, ты серьезно считаешь, что девочка у него?
Я покачал головой.
— Предполагаю. Но если он вовлечен в дело, держу пари, там должен быть какой-нибудь ребенок.
Энджи отпустили только в два часа дня. Нам чудом удалось проскочить мимо толпы журналистов. Мы выехали на Бродвей и поехали за машиной Оскара и Девина. Они выключили мигалку и покатили через мост к платной автостраде «Мэсс».
— Раерсон выживет, — сказал я. — По-прежнему не знают, сохранят ему руку или нет.
Энджи закурила и кивнула.
— А Лайонел?
— Потерял правый глаз, — сказал я. — Его пичкают транквилизаторми. У водителя, которого Бруссард ударил, сильное сотрясение, но он поправится.
Энджи открыла окно.
— Он мне нравился, — тихо сказала она.
— Кто?
— Бруссард. Очень нравился. Он пришел в бар убить Лайонела, может быть, и нас тоже, и он дробовик направил в мою сторону, когда я стреляла…
— Ты правильно поступила.
— Знаю. Знаю, что правильно, — сказала она и уставилась на сигарету, дрожавшую у нее в руке. — Но я просто… жаль, что так получилось. Он мне нравился. Вот и все.
Я вырулил на «Мэсс».
— Мне тоже.
Уэст-Бекетт лежал в самом сердце Беркширских гор и будто сошел с картины Роквелла. Колокольни возвышаются над ним, как белые подставки, которые ставят в конце неполного ряда книг на полке. По обе стороны от главной улицы тянутся пешеходные дорожки из норвежской сосны, в магазинчиках торгуют антиквариатом и сувенирами. Город лежит в небольшой долине, как фарфоровое изделие в ладонях, сложенных чашей. Вокруг вздымаются темно-зеленые холмы, там и сям виднеются остатки снега.
Дом Джека Дойла стоял довольно высоко на склоне, как и у Бруссарда, в стороне от дороги, однако между нею и участком Дойла полоса деревьев была гораздо шире, и через этот лес к нему вел проезд длиной около полукилометра. Ближайший дом с окнами, с наглухо закрытыми ставнями стоял довольно далеко к западу, и дым из его трубы не шел.
Наиболее крутую часть подъема мы проехали, спрятали машины метрах в двадцати от дороги и дальше пошли пешком. Мы шли медленно не только потому что хотели насладиться природой, но потому, что по склону Энджи на костылях шла с большим трудом, чем по ровному месту. Не дойдя метров десяти до опушки, мы остановились. Одноэтажный домик Дойла был выстроен в стиле горного приюта, по всему периметру его опоясывала терраса, под окном высилась поленница дров.
Проезд был пуст, казалось, что и дом тоже. Мы понаблюдали минут пятнадцать, но не заметили в окнах ни малейшего движения. Дыма из трубы здесь тоже не было.
— Пойду, — сказал я наконец.
— Если он там, — сказал Оскар, — то имеет полное право застрелить тебя, как только шагнешь на террасу.
Я потянулся к кобуре, но, едва прикоснувшись к ней, вспомнил, что пистолет у меня забрали в полиции. Я обернулся к Девину и Оскару, надеясь одолжить оружие у кого-нибудь из них.
— Не выйдет, — опередил меня Девин. — Хватит стрелять в полицейских. Даже в порядке самообороны.
— А если он будет угрожать мне оружием?
— Познаешь силу молитвы, — утешил меня Оскар.
Я фыркнул, раздвинул молодые деревца и уже занес ногу, чтобы сделать первый шаг к дому, как Энджи сказала:
— Стой.
Я остановился. Послышался приближающийся шум движка. За деревьями мелькнул древний «мерседес-бенц» с прикрепленным спереди совком для снега. Джип, подпрыгивая на ухабах, промчался вверх по проезду, выехал на лужайку и остановился у крыльца, водительской дверцей к нам. Из него вышла полная женщина с добрым открытым лицом, потянула носом воздух и стала вглядываться в деревья. Казалось, она смотрит прямо на нас. Таких голубых глаз я в жизни не видел, лицо светилось здоровьем, видимо, сказывалась жизнь среди гор.
— Жена его, — прошептал Оскар, — Триша.
Женщина повернулась к нам спиной и заглянула в джип. Мне сначала показалось, что она ездила в магазин за продуктами, но потом в груди у меня что-то екнуло и замерло.
На плечо Триши опустился подбородок Аманды Маккриди. На голове у девочки была красно-белая ушанка. Сунув палец в рот, она сонным взглядом уставилась на деревья.
— Кто-то у нас заснул по дороге, — сказала Триша Дойл, — да?
Аманда положила голову ухом на плечо миссис Дойл и уткнулась ей носом в шею. Та сняла с девочки шапку и пригладила волосы, такие яркие — почти золотые — на фоне зелени деревьев и ясного неба.
— Поможешь мне приготовить обед?
Аманда что-то ответила, что именно — я не расслышал, улыбнулась. Улыбка была так хороша, говорила о таком благополучии, что мне стало не по себе.
Мы следили за ними еще часа два.
Сначала они готовили сэндвичи, Триша стояла у плиты, Аманда сидела за стойкой, подавая ей сыр и хлеб. Потом они обедали, а я, забравшись на дерево, стоя на одной ветке и держась руками за другую, наблюдал за ними.
Они ели сэндвичи и суп, иногда наклонялись друг другу, жестикулировали и хохотали с полными ртами.
После обеда вместе мыли посуду. Потом Триша усадила девочку на стойку, надела на нее шапку и пальтишко, убедилась, что Аманда правильно завязывает шнурки. Потом она куда-то ушла, и Аманда осталась одна. Она смотрела в окно, и на лице появилось выражение остро переживаемого одиночества. Она посмотрела вдаль, куда-то за эти леса и горы. Не знаю, сказывалось ли это душераздирающее небрежение, пережитое ею в прошлом, или невыносимая неопределенность будущего, в благополучие которого ей, конечно, еще только предстояло поверить. В этот момент я увидел в ней сходство с матерью и понял, где и когда видел такой взгляд прежде: у Хелен, когда перед закрытием бара она сказала мне, что, если бы Аманда нашлась, она бы больше никогда не спустила с нее глаз.
Триша Дойл вернулась на кухню, и на лице Аманды признаки душевного смятения — прежних невзгод и новых опасений — уступили место нерешительной, робкой улыбке.
Они вышли на террасу, а я слез с дерева. С ними был приземистый английский бульдог, коричневый с белыми пятнами, под цвет полоски холмов за домом, на солнечных местах которых уже обнажилась темная земля, и только между двумя соседними скалами оставался гребень слежавшегося снега.
Аманда каталась по земле с псом, визжала, когда тому удавалось прижать ее к земле, и со слюнявой морды капало ей на лицо. Она вырывалась, убегала, он бежал сзади и хватал ее за ноги.
Триша уложила пса на землю и, придерживая одной рукой, показала, как расчесывать ему шерсть. Аманда стала на колени и осторожно водила щеткой, будто расчесывала собственные волосы.
— Ему не нравится, — донеслись до меня ее слова.
Я тогда впервые услышал ее голосок. Любопытный, смышленый ребенок.
— Ему больше нравится, когда это делаешь ты, — сказала Триша, — у тебя нежнее получается.
— У меня? — Аманда взглянула в лицо Трише, продолжая ровно и медленно водить щеткой.
— Ну да. Гораздо нежнее. У меня-то руки как у старушки. Щетку как схвачу, иногда у старого Ларри шерсть выдираю.
— А почему ты зовешь его старым Ларри? — Это имя Аманда произнесла нараспев, второй слог выше, чем первый.
— Я же тебе рассказывала, — сказала Триша.
— Расскажи еще, ну, пожалуйста.
Триша усмехнулась.
— Когда мы только поженились, у мистера Дойла был дядя, очень похожий на бульдога с отвислыми щеками.
Триша свободной рукой взялась за кожу у нижней челюсти и оттянула к подбородку. Аманда засмеялась.
— Похож был на собаку?
— Именно так, детка. Он даже иногда гавкал.
Аманда снова засмеялась.
— Правда, что ль?
— Чистая правда!
Миссис Дойл отпустила Ларри, и он присоединился к общему веселью: все трое, сидя на земле, залаяли друг на друга.
Никто из нас за все это время не проронил ни слова. Они играли с собакой, играли друг с другом, из перенумерованных старых досок построили мини-дом. Потом сидели на скамейке. Становилось прохладно. Миссис Дойл накинула на плечи вязаную шаль, пес пристроился у ее ног. Она что-то говорила, касаясь подбородком волос Аманды, а та отвечала, прижавшись щекой к ее груди.
Мне кажется, в этом лесу мы все почувствовали себя грязными, ничтожными и бесплодными. Бездетными. Убедились, что по крайней мере на тот момент не годимся, не можем и не хотим подняться до самопожертвования, связанного с исполнением родительского долга. Что мы — чиновники на природе.
Потом Триша и Аманда взялись за руки и пошли в дом, и собака с ними, путаясь под ногами. Потом приехал Джек Дойл, он вылез из «форд-эксплорера» с коробкой под мышкой. Не знаю, что в ней было, но через несколько минут Триша и Аманда восторженно завизжали. Все трое перешли на кухню. Аманду снова посадили на стойку, и она болтала без умолку, судя по жестам, рассказывала, как чистила щеткой Ларри, и оттягивала себе щеки, показывая брыли дяди Ларри. Джек смеялся, запрокидывал голову и прижимал к груди Аманду. Когда он вставал из-за стойки, она прижалась к нему и потерлась щекой о выросшую к вечеру щетину.
Девин полез в карман, достал телефон, набрал 411.
— Приемную шерифа Уэст-Бекетта, пожалуйста.
Он повторил номер вслух, внес его в записную книжку телефона и уже хотел нажать кнопку «Вызов», но Энджи положила ладонь ему на запястье.
— Ты что делаешь, Девин?
— А ты что делаешь, Энджи? — Он посмотрел на ее руку.
— Хочешь арестовать?
Он взглянул на дом, потом на Энджи и нахмурился:
— Да, хочу.
— Нельзя.
Он стряхнул ее руку:
— Еще как можно.
— Нет. Она… — Энджи указала сквозь деревья. — Разве не видишь? Они очень ей подходят. Они… Господи, Девин, они ее любят.
— Они ее похитили, — упрямо сказал Девин. — Ты забыла об этом?
— Девин, нет. Она… — Энджи опустила голову. — Если мы их арестуем, Аманду вернут Хелен. Она погубит малышку.
Он внимательно посмотрел на Энджи, как будто не мог поверить своим глазам и ушам.
— Послушай меня, Энджи. Там полицейский. Я не люблю арестовывать полицейских. Но если ты вдруг забыла, этот коп организовал убийство Криса Маллена, Фараона Гутиерреса, Сыра Оламона, пусть неявно, пусть хотя бы не предотвратил. Он отдал приказ убить Лайонела Маккриди и, кстати, вас тоже. У него на руках кровь Бруссарда. У него на руках кровь Паскуале. Он убийца.
— Но… — Она в отчаянии взглянула в сторону дома.
— Но что? — На лице Девина смешались гнев и растерянность.
— Они ее любят, — сказала Энджи.
Девин вслед за Энджи посмотрел в окно кухни, где Джек и Триша раскачивали Аманду, держа ее за руки. Его лицо начало смягчаться, но потом исказилось, будто от боли.
— Хелен, — сказала Энджи, — угробит ее. Точно. И ты это знаешь. Патрик, и ты тоже это знаешь.
Я отвернулся.
Девин глубоко вздохнул, голова его мотнулась, как от удара. Он потряс ею, глаза прищурились, и, отвернувшись от дома, он нажал на кнопку «Вызов».
— Нет, — сказала Энджи. — Нет.
Мы молча смотрели, как Девин поднес к уху телефон. Никто не отвечал. Подождав, Девин отнял сотовый от уха и нажал кнопку «Отбой».
— Никто не берет. В таком крошечном городке шериф сейчас, наверное, почту развозит.
Энджи закрыла глаза и шумно втянула в себя воздух.
Над вершинами деревьев пролетел сокол, холодный воздух прорезал его пронзительный крик, который всегда вызывает у меня мысли о внезапной ярости, о свежей ране.
Девин сунул телефон в карман и достал значок.
— Сделаем это сами.
Я хотел повернуться в сторону дома, но Энджи, схватив меня за руку, не дала. Вид у нее был разнесчастный.
— Патрик, Патрик, нет, нет, нет. Ну пожалуйста! Поговорите с ним. Мы не можем так поступить. Не можем.
— Тут закон, Энджи.
— Чушь! Они любят Аманду. Дойл больше не опасен.
— Чушь, — эхом откликнулся Оскар.
— Для кого? — сказала Энджи. — Для кого он представляет опасность? Бруссард мертв, о причастности Дойла, кроме нас, никто не знает, опасаться ему некого, угрозы для него никто не представляет.
— Мы для него угроза, — сказал Девин. — Ты обкурилась, что ли, что ты несешь?
— Мы угроза, пока мы тут. Если сейчас уйдем и никогда никому ничего не скажем, все само собой закончится.
— А он еще у кого-нибудь ребенка украдет. — Девин наклонил голову на плечо.
Она повернулась ко мне:
— Не делайте этого. Прошу вас, пожалуйста!
— Энджи, — тихо сказал я, — это не их ребенок. Это ребенок Хелен.
— Хелен — это яд, Патрик. Помнишь, я тебе говорила об этом. Она высосет из девочки все живое. Запрет ее в четырех стенах. Она… — По ее щекам полились слезы, но Энджи этого не замечала. — Хелен — смерть. Заберете отсюда Аманду — приговорите к долгой, мучительной смерти.
Девин посмотрел на Оскара, потом на меня.
— Не могу больше это слушать.
— Пожалуйста. — Это слово вырвалось у Энджи, как свист из кипящего чайника, лицо разом обмякло, стало пустым и невыразительным.
Я взял ее за руки:
— Энджи, может, ты ошибаешься насчет Хелен. Она многое поняла. Она поняла, что была плохой матерью. Видела бы ты ее в тот вечер…
— Да пошел ты, — сказала Энджи холодно и твердо, оттолкнула мои руки и стала утирать слезы, но как-то слишком энергично. — Не желаю я слушать эту ахинею, я-ее-видел, она-поняла… Где ты ее видел? В баре? И что ты тогда мне тут рассказываешь, что она поумнела? Ничему они не учатся. Не меняются они.
Она стала искать в сумочке сигареты.
— Нет у нас права судить, — сказал я. — Это не…
— А у кого оно есть, это право? — перебила меня Энджи.
— Не у них. — Я указал на дом за деревьями. — Они решили, будто могут решать, кому можно воспитывать детей, кому нет. Кто дал Дойлу право принимать такие решения? А если попадется ребенок, воспитанный в такой религиозной традиции, какая Дойлу не нравится? А если ему не нравятся родители-гомосексуалисты, чернокожие, татуированные? Тогда что?
Лицо Энджи потемнело.
— Мы не об этом сейчас говорим, и ты это прекрасно понимаешь. Мы говорим о конкретном случае, об Аманде. Не хрена пудрить мне тут мозги школьными истинами, которым тебя обучили иезуиты. Не хватает мужества поступить так, как надо, Патрик? Ни у кого из вас. Кишка тонка.
Оскар посмотрел на кроны деревьев.
— Может, и так.
— Идите, — сказала она. — Идите, арестовывайте. Но я смотреть на это не хочу. — Она закурила и выпрямилась. Зажав сигарету двумя пальцами, Энджи взялась за костыли. — Вы мне омерзительны.
Мы молча смотрели ей вслед.
За все то время, что я работаю частным детективом, мне не приходилось быть свидетелем сцены более отвратительной и угнетающей, чем арест Джека и Триши.
Джек сидел на кухне и рыдал. Триша держала Аманду на руках. Оскар стал вырывать девочку, Аманда визжала, колотила Оскара кулаками и кричала:
— Бабушка! Нет! Не отдавай меня! Не отдавай ему!
Девин позвонил шерифу еще раз, на этот раз тот взял трубку и уже через несколько минут подъехал к дому Дойла. Пришел на кухню и смутился. Аманда обмякла на руках у Оскара, Триша стояла, покачивая и прижимая к животу голову рыдающего Джека.
— Господи боже мой! — шептала Триша, понимая, что их жизни с Амандой приходит конец, конец свободе, конец всему. — Господи боже мой! — прошептала она снова, и я вдруг задумался, слышит ли он ее, слышит ли, как поскуливает Аманда на груди у Оскара, как Девин зачитывает Джеку его права? Слышит ли он вообще хоть что-нибудь?
«Воссоединение матери и ребенка» — под такими словами на следующее утро вышел номер «Новостей». И под такими же, но только выведенными на задники студий, седьмого апреля в 20:05 по восточному поясному времени выходили в прямой эфир новостные передачи по всем местным телеканалам.
В сиянии ослепительно-белого света софитов Хелен прошествовала от подъезда своего дома через толпу журналистов и приняла Аманду из рук социального работника. Испустив возглас, напоминавший собачий вой и обливаясь слезами, она пустилась целовать щеки, лоб, глаза и нос дочери.
Аманда обхватила мать за шею и уткнулась лицом ей в плечо. Присутствовавшие при сем соседи разразились аплодисментами. Хелен огляделась, притворно-застенчиво улыбнулась, поморгала от яркого света софитов, энергично погладила дочь по спине и улыбнулась на этот раз более широкой улыбкой.
Бубба, стоявший у меня в гостиной перед телевизором, оторвался от экрана и посмотрел на меня.
— Ну что, как будто все уладилось, — сказал он. — Так?
Я кивнул:
— Кажется, да.
В коридоре появилась Энджи. Бубба повернулся к ней. Она прыгала на одной ноге с ящиком под мышкой. Поставив его на другие, сложенные на лестничной клетке, она проскакала обратно в спальню.
— Что это она переезжает?
— У нее спроси, — пожал плечами я.
— Спрашивал. Не говорит.
Я снова пожал плечами, не решаясь пускаться в объяснения.
— Старина, — Бубба замялся, — я и сам не рад, что помогаю ей переезжать. Понимаешь? Но она меня попросила.
— Все нормально, не бери в голову.
Хелен сообщила телерепортеру, что считает себя счастливейшей женщиной на свете.
Бубба покачал головой, пошел из комнаты, взял у двери составленные стопкой коробки и стал спускаться с ними по лестнице.
Я прислонился к притолоке двери в спальню и смотрел, как Энджи вытаскивает из стенного шкафа рубашки и бросает на кровать.
— У тебя ведь все наладится? — сказал я.
Она протянула руку и вынула из шкафа несколько вешалок, держа их за шейки крючков.
— Все будет нормально.
— Может, поговорим?
Она расправила складки на верхней рубашке в стопке.
— Уже говорили. В лесу. Мне больше нечего сказать.
— А мне есть.
Она открыла чемодан, уложила в него стопку рубашек и застегнула молнию.
— Тут какие-то твои, — сказала Энджи, имея в виду вешалки. — Я потом верну.
Она взяла костыли и повернулась ко мне.
Я стоял в дверях, мешая ей пройти.
Энджи опустила голову и посмотрела в пол.
— Так и будешь тут стоять?
— Не знаю. От тебя зависит.
— Я просто думаю, класть костыли или нет. Если долго стою неподвижно, у меня руки затекают.
Я посторонился. Как раз в это время снизу вернулся Бубба.
— Еще чемодан на кровати, — сказала Энджи. — Последний, больше ничего нет.
Она повернулась к выходу на лестницу. Я слышал, как стукнули друг о друга костыли, которые она взяла в одну руку. Держась другой за перила, Энджи запрыгала на одной ноге вниз по ступенькам.
Бубба взял чемодан с кровати.
— Что ты ей сделал, старина?
Я вспомнил Аманду и Тришу с накинутой на плечи вязаной шалью, как они сидели, обнявшись, на скамейке, прислонившись к перилам крылечка, и тихо разговаривали.
— Я разбил ей сердце, — сказал я.
Потом Джек Дойл, Триша и Лайонел Маккриди предстали перед расширенной коллегией присяжных. Им были предъявлены официальные обвинения в похищении ребенка, его принудительном удержании и небрежном обращении с ребенком. Джеку Дойлу также предъявили официальные обвинения в убийствах Криса Маллена, Фараона Гутиерреса и подготовке убийств Лайонела Маккриди и федерального агента Нила Раерсона.
Раерсона выписали из больницы. Врачи спасли ему руку, но она стала сухой и бесполезной, по крайней мере на время, хотя, возможно, и навсегда. Он вернулся в Вашингтон, где ему предоставили канцелярскую должность в программе защиты свидетелей. Мне тоже пришлось предстать перед коллегией присяжных и рассказать все, что я знал о том, что журналисты назвали «Скандалом с задремавшей полицией». Никто, кажется, не отдавал себе отчета в том, что в названии заложена идея похищенного полицейского, а не полицейского-похитителя, и скоро оно стало именем нарицательным для подобных случаев так же, как «Уотергейт» во времена Никсона для государственной измены и менее значительных преступлений коррупционного толка.
Мои показания по поводу последних минут жизни Реми Бруссарда коллегия во внимание не приняла, поскольку подтвердить их я не мог. Но остальные мои свидетельства по этому делу заслушали.
Обвинения в убийствах Малыша Дэвида Мартина, Кимми Нигаус, Свена «Сыра» Оламона и Рея Ликански, чье тело так и не нашли, никому так и не были предъявлены.
Федеральный прокурор говорил, что, по его мнению, вряд ли Джека Дойла осудят за смерть Маллена и Гутиерреса, но, с другой стороны, поскольку его причастность к их гибели вполне очевидна, он получит на полную катушку по обвинениям, связанным с похищением Аманды, и воли ему не видать.
Рейчел и Николс Бруссард исчезли в ночь смерти Реми в неизвестном направлении, а с ними и, как считало обвинение, двести тысяч долларов Сыра.
Один из скелетов, обнаруженных в подвале дома Леона и Роберты, как выяснилось, принадлежал пятилетнему мальчику, пропавшему два года назад в Западном Вермонте. Другой — семилетней девочке, о пропаже которой никто не заявлял, поэтому скелет так и остался неопознанным.
В июне я заехал к Хелен.
Своими костистыми руками она так крепко обхватила меня за шею, что остались синяки. От нее пахло духами, губы были накрашены ярко-красной помадой.
Аманда сидела на диване в гостиной, смотрела по телевизору комедию об отце-одиночке двух не по годам смышленых шестилетних близнецов. Папаша был губернатором, или сенатором, или кем-то в этом роде, все время проводил у себя в рабочем кабинете, и, насколько я мог судить, с детьми в его отсутствие никто не сидел. К ним в дом постоянно заходил какой-то латиноамериканского вида сантехник, много жаловался на свою жену, Розу, у которой вечно болит голова. Шутки были все сальные, близнецы все понимали и смеялись открыто, тогда как сам губернатор старался казаться серьезным и скрывал улыбку. Публика была в восторге и покатывалась от хохота после каждой остроты.
Аманда не смеялась. На ней была розовая ночная рубашка, нуждавшаяся в стирке или хотя бы в паре пшиков «вулайтом».[64] Меня она не узнала.
— Детка, это Патрик, мой друг.
Аманда взглянула на меня и подняла руку в знак приветствия.
Я тоже махнул ей, но она уже снова уставилась в телевизор и моего жеста не заметила.
— Обожает эту передачу. Правда, детка?
Аманда не ответила.
Хелен прошлась по гостиной, наклонила голову и нацепила в ухо сережку.
— Господи, Патрик, Беа теперь ненавидит вас за то, что вы сделали с Лайонелом.
Я пошел за ней в столовую. Там Хелен смахнула что-то со стола в сумочку.
— Видимо, потому и не заплатила мне.
— Можете подать на нее в суд, — сказала Хелен. — Ведь правда же? Можете. Или нет?
Мне не хотелось говорить об этом, и я не ответил.
— Ну а вы как? Тоже меня ненавидите?
Она покачала головой и пригладила прическу возле ушей.
— Шутите? Лайонел отобрал у меня ребенка. Брат он мне, не брат, пошел он!..
При словах «пошел он» у Аманды в лице что-то едва дрогнуло. Хелен провела пальцами по ярким браслетам, тряхнула рукой, они собрались у запястья.
— Куда-то уходите? — спросил я.
Она улыбнулась:
— Угадали. Кто он? Увидал меня по телику, решил, что я звезда экрана. — Она рассмеялась. — Вот умора! Ну, в общем, пригласил меня. Такой ловкач!
Я посмотрел на ребенка на диване:
— А Аманда?
— С ней Дотти посидит.
— А Дотти в курсе? — спросил я.
Хелен хихикнула:
— Через пять минут тут будет.
Я посмотрел на отражение Аманды в экране как раз в тот момент, когда показывали рекламу электрической открывалки для консервных банок. Банка, как рот, открывалась у нее во лбу. Зазвучала музыкальная заставка, квадратный подбородок отражения был белым и голубым, глаза смотрели равнодушно. Открывалку сменил ирландский сеттер, на экране он валялся по зеленой траве и прокатился по лбу отражения Аманды.
«Для собак это как для нас — икра, — сказал диктор. — Разве ваша собака не заслуживает такого же отношения, как и остальные члены семьи?»
«От собаки зависит, — подумал я. — И от семьи».
Вдруг в районе диафрагмы меня кольнула невыносимая усталость, она отозвалась пульсирующей болью в суставах. Дыхание перехватило.
Я собрался с силами и пошел из гостиной.
— До свидания, Хелен.
— Уже уходите? До свидания.
Я остановился в дверях:
— Пока, Аманда.
Не отводя от экрана лица, залитого оловянным светом, она чуть кивнула.
— До свидания, — возможно, обращаясь к латиноамериканского вида сантехнику, уходившему домой к своей Розе.
Я дошел до игровой площадки «Райан». Присел на качели, где мы разговаривали с Бруссардом. Посмотрел на недостроенный лягушачий пруд. Здесь мы с Оскаром уберегли ребенка от безумного Джерри Глинна.
А теперь? Что мы теперь сделали? Какое преступление совершили мы, отобрав ребенка у родителей, не имевших на него законных прав?
— Мы вернули домой Аманду Маккриди. Вот и все, — пытался убедить себя я. — Никакого преступления в этом нет. Мы вернули ее матери, имеющей на нее права по закону. Не больше, но и не меньше. Вот, это то, что мы сделали.
Мы вернули ее домой.
Порт-Меса, Техас
Октябрь 1998
Как-то вечером в баре «Последняя стоянка Крокетта» Рейчел Смит ввязалась в пьяную дискуссию о том, за что стоит умирать.
— За родину, — сказал парень, недавно отслуживший в армии.
Остальные подняли стаканы и выпили.
— За любовь, — сказал другой, вызвав глумливые возгласы присутствующих.
— За «Даллас Мэверикс», — закричал кто-то, — мы за них болеем и вот-вот помрем, с тех самых пор, как они вошли в НБА.
Все засмеялись.
— Мало ли за что, — сказала закончившая смену Рейчел Смит, подойдя к столу со стаканом скотча в руке, — стоит умереть. Люди каждый день мрут. Кто за пять долларов. Кто за то, что в неподходящий момент не отвел глаз, встретившись взглядом с неподходящим человеком. Кто из-за креветки. Смерть — не мера.
— А что — мера? — выкрикнул кто-то.
— То, за что он сам может убить, — сказала она.
В баре вдруг стало очень тихо. Все молча смотрели на Рейчел. В ее голосе была та спокойная твердость, которой иногда соответствовало что-то во взгляде, то, отчего, если внимательно присмотреться, становилось не по себе.
Элгин Берн, капитан судна «Голубой рай», самого лучшего из тех, на которых у нас промышляют креветок, негромко спросил:
— Ну а ты, Рейчел, за что могла бы убить?
Она подняла стакан так, что свет от лампы над бильярдным столом заиграл в кубиках льда.
— За свою семью, — сказала Рейчел. — И только за нее.
Кто-то нервно засмеялся.
— Не раздумывая, — добавила она. — Без оглядки. Без жалости.
Деннис Лихэйн — признанный мастер «нуара», лауреат американских и зарубежных премий. Его дебютный «Глоток перед битвой» удостоен Shamus Award — награды, присуждаемой за лучший детектив года. «Прощай, детка, прощай» — четвертый роман серии о частных сыщиках из Бостона Патрике Кензи и Энджи Дженнаро, по нему поставлен одноименный фильм. По триллерам Лихэйна сняты и другие прославленные фильмы: «Таинственная река» Клинта Иствуда, заслужившая двух «Оскаров», «Золотой глобус» и премию Каннского фестиваля, и «Остров проклятых» Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Лихэйн — один из тех авторов-новаторов, которые не боятся жонглировать традициями жанра.
Деннис Лихэйн — явный традиционалист. Сквозь страницы его произведений проглядывают лики великих — Чандлера, Макдональда, Паркера. Но голос у него свой, особенный. Лихэйн превращает крутой детективный роман в увлекательное художественное исследование деградации души.
1
«Nine Inch Nails», «Девятидюймовые гвозди» (англ.) — название американской рок-группы.
2
«Симпатичная машина, порождающая ненависть» (англ.) — песня NIN.
3
Эрхарт Амелия Мэри (1897–1937?) — авиатор; первая женщина, пересекшая Атлантику на самолете. Бесследно исчезла во время одного из полетов.
4
Дот-Рэт — объединение агрессивно настроенной части белой молодежи Дорчестера.
5
American Morning — передача Си-эн-эн.
6
Орландо Джонс — американский чернокожий актер, сценарист, продюсер.
7
Ангельская пыль — фенилциклидин, галлюциногенный наркотик.
8
«Шугарей» — рок-группа.
9
«Дневник Тернера» — роман Эндрю Макдональда, бывшего лидера расистской организации «Национальный альянс».
10
НАВНО — Национальная ассоциация владельцев нарезного оружия.
11
Тибол — вариант бейсбола или софтбола для начинающих и детей.
12
Хоум-ран — удар, при котором мяч пролетает все поле и вылетает за его пределы.
13
Болтушка Кэти — кукла, выпускавшаяся компанией «Маттел» в 1959–1965 годах.
14
Хибачи — традиционный японский гриль. Здесь — небольшая кухонная плита на древесном угле.
15
Футон — японский хлопчатобумажный матрас.
16
Рут (Малыш) Джордж Герман — легендарный бейсболист-рекордсмен.
17
Шафт Джон — главный герой одноименного фильма (1971), чернокожий частный детектив.
18
Азидотимидин — лекарство для больных СПИДом.
19
Раундтри Ричард — актер, сыгравший чернокожего детектива Шафта.
20
Фурман Марк — бывший детектив из полицейского департамента Лос-Анджелеса, известный своей ролью в расследовании убийств Николь Браун Симпсон и Рональда Гольдмана, был осужден за лжесвидетельство.
21
Кинг Дон — боксерский промоутер, известный своей экстравагантной прической.
22
«Патриоты» — команда, играющая в американский футбол.
23
Каан Джеймс — американский актер. Сыграл молодого Вито Корлеоне в фильме Копполы «Крестный отец».*
* На самом деле Джеймс Каан сыграл в «Крестном отце» Сантино (Сонни, Санни) Корлеоне. (прим. верстальщика файла)
24
«Бруинс» — спортивные команды Университета Калифорнии, штат Лос-Анджелес.
25
Гранж — музыкальное направление в хард-роке 1990-х. Наиболее яркий представитель — группа «Nirvana».
26
«Нэшнл Лэмпун» — юмористический журнал, выходил с 1970 по 1998 год.
27
Уолпоул — массачусетская тюрьма строгого режима.
28
Джонсон Иеремия — герой фильма Сидни Поллака, отказавшийся от цивилизации и поселившийся в горах.
29
У. Шекспир. Генрих V. Перевод Е. Бируковой.
30
У. Шекспир. Ричард III. Перевод М. Донского.
31
Эдамс Джон «Гризли» — знаменитый калифорнийский дрессировщик.
32
Коварный Е. Койот — персонаж многосерийных мультфильмов «Сумасшедшие мелодии» и «Веселые мелодии» Чака Джонсона.
33
Вдовий мостик — площадка на крышах домов в Новой Англии, на которой жены моряков ожидали возвращения мужей.
34
Имеется в виду вторжение в 1983 году американской армии на крошечный островок в Карибском море.
35
АКСЗН — администрация по контролю за соблюдением законов о наркотиках.
36
Чиа петс — фигурки из терракоты в виде человеческих голов или зверушек, используются для выращивания в домашних условиях чии — испанского шалфея.
37
«Гудвилл индастриз» — организация, основанная в 1902 году Эдгаром Хелмсом. Собирая в богатых кварталах Бостона неисправную бытовую технику и одежду, он нанимал бедняков, которые ее ремонтировали и затем либо продавали, либо приобретали сами. Организация действует по сей день.
38
«Катрина и Волны» — британско-американская поп-рок-группа.
39
«Бананарама» — самая успешная британская группа в истории поп-музыки.
40
Нена — настоящее имя Габриэле Кернер — немецкая актриса и солистка одноименной группы.
41
Сервент — работник, выполняющий по контракту определенную работу в качестве платы за оказанную ему услугу или с целью выплаты долга.
42
Зена — главная героиня телесериала «Зена — королева воинов».
43
Тумстон — городок на юго-востоке штата Аризона. В 80-х годах XIX века был известен как центр серебряных рудников. Неподалеку расположена скотоводческая ферма «О’кей кораль», где У. Эрп и Док Холлидей свели счеты с бандой «Ковбои» в знаменитой перестрелке.
44
Уэйн Джон (англ. John Wayne, 1907–1979) — король вестерна. Один из самых востребованных голливудских актеров эпохи звукового кино.
45
СААЛМИМ — Североамериканская ассоциация любви мужчин и мальчиков (NAMBLA) — организация, выступающая в защиту педофилов и мужчин-гомосексуалистов.
46
Да (итал.).
47
Рокне Кнут (1888–1931) — футболист и тренер команды Университета Нотр-Дам, на счету которой рекордное число побед (105), 12 проигрышей и 5 ничьих.
48
В салочки играем — вариант американского футбола, где к игроку достаточно прикоснуться, и не применяются такие жесткие приемы, как сбивание с ног.
49
Сделать пант — выбить мяч ногой с руки в сторону соперника.
50
Шоттенхаймер Мартин Эдвард — главный тренер «Виржиния дестройерс».
51
Дуэйн Чарльз «Бил» Парселлс — бывший главный тренер американской сборной.
52
Хэш-отметки — два ряда коротких линий, которые располагаются почти посередине поля перпендикулярно боковым сторонам.
53
Филдгол — поражение ворот мячом, посланным ногой.
54
«Комбат» — товарный знак инсектицидов.
55
Хоппер Эдвард (1882–1967) — американский художник. На некоторых его картинах объекты изображены при ночном освещении.
56
Неприкасаемые — группа агентов ФБР, которая в конце 1920-х годов немало поспособствовала созданию образа неподкупного федерального агента и сыграла решающую роль в разгроме группировки Аль Капоне.
57
Пейтон Уолтер — футболист, один из самых успешных раннеров в истории американского футбола.
58
Пробация — вид условного осуждения, при котором осужденный остается на свободе, но находится под надзором сотрудника соответствующей службы.
59
Ву Джон — актер, снимавшийся в вестернах.
60
Пекинпа Дэвид Сэмюэл — американский кинорежиссер и сценарист, один из наиболее значимых новаторов кинематографа XX века.
61
23 октября 1989 года в Бостоне была убита беременная чернокожая женщина, Кэррол Стюарт. По ложному обвинению мужа убитой арестовали чернокожего Уилли Беннета. Позже выяснилось, что убийца — муж. В 1990 году он покончил с собой, бросившись с моста Тобин.
62
Дарин Бобби — популярный американский исполнитель рок-н-ролла и кантри в конце 1950-х — начале 1960-х годов.
63
Тадж Махал — наст. имя Генри Ст. Клэр Фредерикс — певец, композитор, мультиинструменталист и выдающийся музыкальный антрополог.
64
«Вулайт» — моющие средства, выпускаются в том числе в виде аэрозолей.