Книга: Следствие разберется
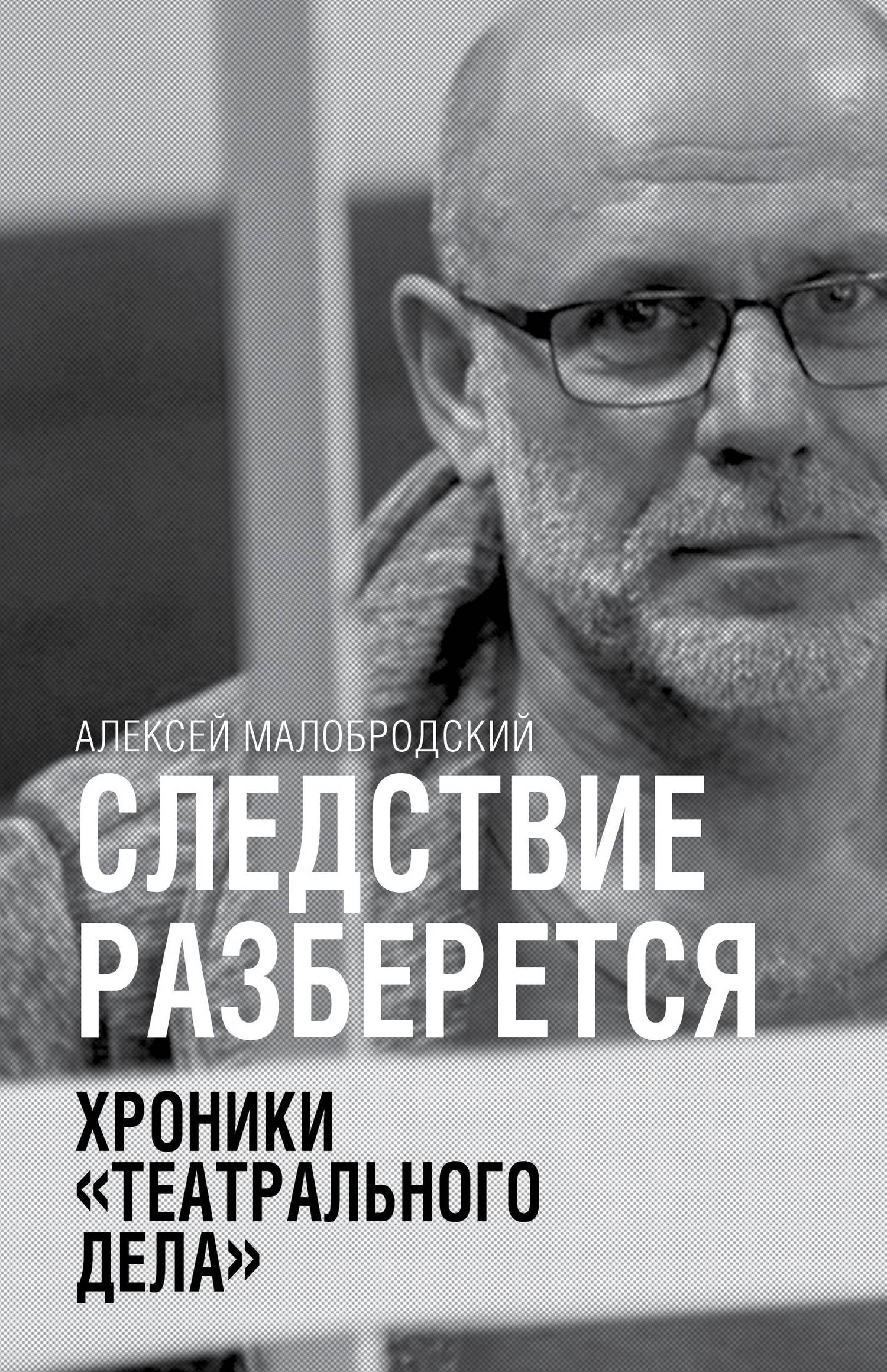
Алексей Аркадьевич Малобродский
Следствие разберётся. Хроники «театрального дела»
Моей жене Тане
© А.А. Малобродский, 2020
© А.Е. Знаменская, иллюстрации, 2020
© Михаил Почуев/ТАСС, фотография на обложке, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020

Звонок скрипнул коротко, суетливо, поначалу, казалось, застенчиво. Потом ещё и ещё раз, уже нервно, срываясь в истерику. Будильник звучит иначе. Кажется, ещё нет семи. Соседи? Открыть глаза, нащупать шлёпанцы, халат, проверить, не текут ли краны и трубы на кухне, в ванной, добрести до двери. В маленькой однокомнатной квартире на всё – несколько шагов, несколько секунд. Вслед за телом просыпается сознание. Сегодня предстоит много дел: важная встреча, я добивался её две недели; в университете обсуждение моей программы театрального факультета; открытие выставки, вечеринка… не забыть, успеть…
В приоткрытую дверь мгновенно просунулись нога и плечо доблестного оперативника. Несколько мужчин, сгрудившихся за его спиной, всем своим видом выражали развязную решимость, сквозь которую, однако, странным образом просвечивало лёгкое замешательство. Будто бы по отношению ко мне у них не было безусловно одобренного, согласованного намерения. Два следующих года подобное ощущение будет возникать у меня с появлением каждого нового персонажа, на каждом повороте истории, начавшейся в то утро и не законченной до сих пор.
Нельзя было допустить, чтобы свора незваных гостей оказалась в комнате, где ещё спала моя жена; я заорал на них хриплым спросонок матом. Удивительно, но они остановились. Одевшись, я потребовал и внимательно прочитал ордер, затем впустил их. Несколько сотрудников московского Следственного комитета, с ними не представившийся прыщавый переросток, а также курсанты-полицейские в качестве понятых. Это был обыск. На вопрос, какие запрещённые предметы имеются в квартире, я ответил: только те, которые вы, наверное, принесли с собой.
Месяцем раньше СМИ, кажется, всего мира сообщили об обысках в «Гоголь-центре» и в квартирах Кирилла Серебренникова и связанных с ним работой в театре и проекте «Платформа» людей. Бывший гендиректор «Платформы» Юрий Итин даже удостоился задержания и был помещён под домашний арест. Меньше повезло бухгалтеру Нине Масляевой, оказавшейся за решёткой. Чем руководствовался суд, избирая моим бывшим коллегам различные меры пресечения, остаётся для меня загадкой. Писали, что им предъявлено обвинение в хищении одного миллиона двухсот тысяч рублей, перечисленных некой компании по фиктивному договору. Такое обвинение никак не объясняло полутора десятков эффектно проведённых обысков с собаками и вооружёнными омоновцами в масках. Я был первым генеральным продюсером «Платформы», но в 2014 году, когда по версии следствия произошло хищение, минуло уже почти два года, как я оставил этот замечательный проект. Я ожидал, что буду вызван для пояснений. Друзья призывали меня к осторожности, предлагали уехать. Я снисходительно посмеивался над такими советами – ведь я не нарушал закон, в делах был аккуратен, а потому уверен, что меня невозможно в чём-либо обвинить.
В крошечной съёмной квартире было совсем немного вещей. Через десять дней мы собирались перебраться в нашу новую подмосковную квартиру. Там пока не было мебели и продолжался ремонт, но из соображений экономии было решено обустраивать её как-то по ходу. Зимние вещи, кухонный скарб и библиотека хранились в арендованной складской ячейке. В общем, обыскивать было особо нечего. Пароли от наших мобильных телефонов и ноутбуков мы простодушно сообщили, документы предъявили. Всем было скучно. А нам с Таней – отчаянно противно. Никто из ворвавшихся в наше утро людей не отличался обаянием, а с учётом обстоятельств все они вызывали брезгливое и одновременно опасливое чувство. Впрочем, мы были сдержанны и насколько возможно вежливы. Один из пришельцев сообщил, что мне придётся поехать с ними, и спросил, готов ли я дать показания. Конечно, я был готов. «Правильные показания», – уточнил слуга закона. «Нет, – ответил я, – правдивые». Последовал дурацкий диалог, как в очень тупом скетче. Он несколько раз повторил «правильные», а я столько же раз ответил «правдивые». Мы по-разному понимали значение слова «правильный». Тем не менее мой собеседник сообщил кому-то по телефону, что я веду себя адекватно и со мной можно работать. У нас изъяли ноутбуки, айпады, телефоны, часть документов и записных книжек. Корявым, нечитаемым почерком составили протокол. С трудом разобрав написанное, мы подписали.
Таня и несколько следователей с понятыми поехали в нашу квартиру. Поскольку в ней было пусто, обыск там прошёл ещё быстрее и скучнее. Тем временем другая группа препроводила меня в управление Следственного комитета по Москве на Новокузнецкой улице. Доро́гой я позвонил адвокату Ксении Карпинской. Она, как оказалось, была не в Москве, но пообещала направить мне на помощь кого-нибудь из коллег.
Во дворе и коридорах здания Следственного комитета было немноголюдно, но суетливо. Каких-то людей быстро заводили в кабинеты; из-за других вопросительно выглядывали сотрудники, как бы интересуясь, можно ли выйти. Было ясно, что это как-то связано со мной. Одну женщину, всё же попавшуюся мне на глаза, я хорошо знал: Лариса Войкина работала в «Седьмой студии» и – недолгое время – в «Гоголь-центре».
Следователь представился невнятной скороговоркой. Так говорят сотрудники ГИБДД, когда беспричинно останавливают машину. В их утомлённых глазах отчётливо прочитывается сумма, и они искренне сокрушаются, если водитель не проявляет достаточной сообразительности и чуткости. Я дотошно переспрашивал имя, должность и место службы. Следователь, раздражаясь, но раз от разу громче и чётче повторял: «Следователь по особо важным делам Первого следственного отдела Второго управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве капитан юстиции Федутинов Игорь Николаевич». Звучало это одновременно угрожающе и нелепо и будто даже немного лестно: не баран чихнул, люди серьёзные. Любопытство во мне боролось с недоумением, страх и растерянность – со смешливостью. Капитан порывался немедленно «просто поговорить», призвал меня быть откровенным и «рассказать всё». Вероятно, я должен был понимать, что именно от меня хотят услышать. Я искренне не понимал. Федутинов огорчился. Не зная, как его утешить, я объявил, что готов «рассказать всё», когда приедет адвокат.
Вскоре прибыла Юлия Лахова, высокая красивая женщина; осторожная походка и едва заметная округлость выдавали раннюю стадию беременности. С её появлением стало легче и спокойнее, хотя полностью одолеть волнение не получалось. Суета, мелькание сменяющихся лиц, кажущиеся случайность и бестолковость вопросов, беспокойство о Тане, ещё не вернувшейся после обыска, досада из-за несостоявшихся встреч и отменённых дел, невозможность позвонить, усталость и голод – всё раздражало, вызывало головную боль. Федутинов, уже составивший представление о моей несговорчивости, поручил допросы своим помощникам. Их было трое. Первый явно тяготился работой, вопросы задавал устало, без малейшего интереса. Зато нас с интересом слушал анонимный переросток, вертевшийся среди прочих у нас дома во время обыска. На требование адвоката Лаховой объяснить, кто этот человек и на каком основании присутствует, проводивший допрос следователь мрачно пошутил: «Это моя совесть». Как удалось реконструировать много позже, это был фээсбэшный филёр Авдеев, якобы следивший за мной и накропавший дикую, от первого до последнего слова лживую справку, на основании которой меня арестовали.
Допрашивали меня сначала как свидетеля по делу, возбуждённому в отношении Юрия Итина и Нины Масляевой, нисколько не смущаясь тем, что ко времени совершения вменяемого им преступления я полтора года не работал в «Седьмой студии». А по окончании объявили, что теперь я буду допрошен уже в качестве подозреваемого по статье 159, часть 4 – «Мошенничество в особо крупном размере». В чём именно меня подозревают и каковы основания подозревать меня в чём бы то ни было, никто мне не объяснил.
Между тем в сопровождении оперативной группы приехала Таня. На «Платформе» она не работала ни дня, к «Седьмой студии» никогда не имела отношения. Тем не менее её также допросили как свидетеля. Юлия Лахова не могла разорваться между нами. И Таня по праву, предусмотренному 51-й статьёй Конституции, отказалась отвечать на любые вопросы. Следователь и не рассчитывал получить от неё какую-то информацию – просто, делая из моей жены свидетеля, они предусмотрительно создавали ещё один инструмент давления на случай моей несговорчивости. Позже я осознал, что все события того длинного дня строились по стандартному, тысячи раз опробованному органами шаблону и финал был заведомо предопределён уже принятыми кем-то решениями.
Следующий допрос практически полностью повторил вопросы предыдущего. Мне давали понять, что располагают печальными для меня показаниями бывших коллег, якобы меня недолюбливающих, намекали на недружелюбное наше с Кириллом расставание в «Гоголь-центре». Провокации были навязчивыми, но довольно неуклюжими. С каждым вопросом становилось яснее, что от меня ждут компромата на Серебренникова. Этот допрос по очереди проводили два следователя, располагавшиеся в разных кабинетах. Мне не забыть один из них: как все прочие, пыльный, захламлённый бумагами и уродливой, будто случайной мебелью, с плохим раздражающим глаза светом, он имел нелепые пропорции поставленного на узкую поверхность параллелепипеда. Стены украшали яркая икона и парадный портрет генералиссимуса Сталина.
В восьмом часу вечера на меня надели наручники. В коридоре, наскоро прощаясь с измученной и изумлённой Таней, я посоветовал ей провести вечер с друзьями, сообщить о случившемся и попытаться отвлечься.
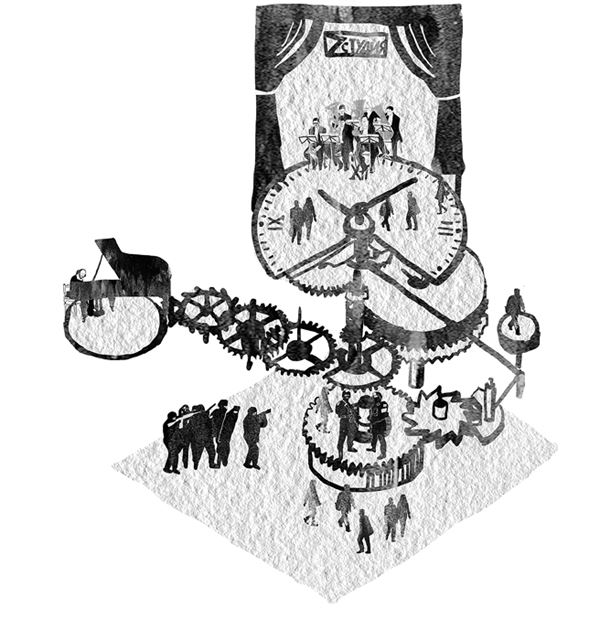
Юрий Итин, мой товарищ со студенческих времён, спросил по телефону, чем я занят и как добываю хлеб насущный. Я уже месяц был совершенно свободен после увольнения из театра «Школа драматического искусства».
Увольнению предшествовало такое обстоятельство: некая маленькая телекомпания на голубом, что называется, глазу требовала бесплатно отдать ей для съёмки передачи один из залов театра. Ссылались на какие-то договорённости с начальством. Звонила Галина Валентиновна Лупачёва, заместитель московского министра культуры, и со значением шипела в трубку, что надо бы помочь. Но отказалась направить письменное распоряжение. Не в силах понять, почему государственный бюджетный театр должен отменить репетиции и спектакли, а свой зал бесплатно предоставить частной коммерческой структуре, я отказал.
За непонятливость я поплатился увольнением. Владелица и директор компании на беду оказалась женой влиятельного чиновника в недавно сформированном правительстве нового мэра Москвы Собянина. Руководитель Департамента культуры Москвы Сергей Ильич Худяков вызвал меня на ковёр. Сам, впрочем, не явился, трусливо поручив разговор своим подчинённым. В унылом кабинете с единственным окном, выходившим на Неглинную улицу, по одну сторону длинного стола рядком устроились заместители руководителя, главы юридического и кадрового управлений, театрального отдела, инструкторы и кураторы – всего с десяток начальников разного калибра. Меня усадили с противоположной стороны. Глаза моих визави беспокойно блуждали по углам, напоминая многоголового окосевшего Змея Горыныча. Мне предложили уволиться по собственному желанию. Я не желал. Театр находился в отличной творческой форме, громадьё интересных планов было скреплено договорённостями с авторами, режиссёрами, музыкантами, партнёрами и спонсорами. Не дослушав меня, Андрей Евгеньевич Порватов, ещё один замминистра, выложил на стол подписанный приказ об увольнении по инициативе учредителя. Я спросил: какие ко мне претензии? Никаких. Тогда в чём причина? Выразительно подняв глаза куда-то в недосягаемую высоту, Андрей Евгеньевич молвил: «Есть мнение». Сошлись на увольнении по соглашению сторон.
«Мы с Серебренниковым, – сказал Юра, – начинаем крутейший проект. Одобрено на самом верху. Нужен человек с твоим опытом. Можешь встретиться, поговорить с Кириллом? Я был бы рад поработать вместе».
На календаре значился апрель 2011 года. Кирилл Серебренников был уже знаменит и имел репутацию режиссёра-новатора. В его внушительном послужном списке были нашумевшие спектакли в самых известных театрах Москвы, несколько фильмов и телевизионных проектов, награждённых солидными премиями. Вместе с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым и Романом Должанским Кирилл руководил успешным фестивалем «Территория». Лично мы не были знакомы.
Первая встреча состоялась в Доме литераторов. Из несколько сумбурного разговора выяснилось, что на какой-то встрече президента с деятелями искусств Серебренников сумел передать Дмитрию Анатольевичу Медведеву проект поддержки и развития современного исполнительского искусства. Инициатива неожиданно получила развитие, последовали конкретные поручения чиновникам. К моменту описываемой встречи уже проходили согласования на уровне аппарата Правительства, Министерства культуры и Министерства финансов. Кирилл собрал группу кураторов и предварительно договорился о кооперации с «Винзаводом». Старейший в Москве кластер современного искусства был готов предоставить часть своего пространства новому проекту. Называться проект должен был «Платформа». Предполагалось, что решением организационных, экономических и юридических задач займётся Итин. Правда, он только что получил назначение в ярославский Театр имени Волкова и не мог в полной мере взять на себя подготовительную работу. Нужно было быстро выстроить рациональную структуру и организовать эффективное производство спектаклей, концертов, выставок и других мероприятий. Поэтому искали продюсера с опытом успешной работы в различных направлениях исполнительского искусства: драматическом и музыкальном театре, современном танце, музыке, мультимедиа.
Несколько недель прошло в сомнениях, прежде чем мы с Серебренниковым подтвердили друг другу намерение работать вместе. Мне импонировали творческая всеядность и огромная работоспособность Кирилла, но часто я не разделял восторга по поводу его работ. Однако незадолго до нашего знакомства два свежих в ту пору впечатления, связанных с ним, увлекли и убедили меня. На сцене театра Пушкина показали поставленный Кириллом в Национальном латвийском театре спектакль «Мёртвые души» с прекрасной музыкой Александра Маноцкова. Спектакль этот мне очень понравился. Едва ли не большее впечатление произвели дипломные спектакли студентов его курса в Школе-студии МХАТ. Покорили даже не собственно спектакли, а то безусловное и безграничное доверие, с которым молодые, искренние и смелые артисты относились к своему учителю.
Кирилл тоже не сразу решился работать со мной. Как позже выяснилось, он хотел убедиться в отсутствии конфликта между мной и Анатолием Васильевым. Дело в том, что пятью годами раньше под нажимом московских властей Васильев, выдающийся режиссёр, педагог и теоретик театра, скандально ушёл из созданной им «Школы драматического искусства». Прогрессивная театральная общественность замерла в предвкушении зрелища бесславной гибели театра, покинутого своим лидером. Моё согласие занять должность директора «Школы» восприняли с осуждением. Мне нет нужды оправдываться в том, что театр выжил. Вопреки предубеждению, я не разрушал, а последовательно сохранял его. Конечно, это уже не был авторский театр Васильева. Но учреждённые мастером и его учениками творческие лаборатории активно работали. Было поставлено три десятка заметных спектаклей, исполнялись блистательные концерты, устраивались выставки, проводились теоретические семинары – пять лет бодрого и честного труда. Я сберёг и передал Васильеву его архив. Ко времени описываемых событий взаимное понимание и доверие между нами были восстановлены. А Кирилл был не просто младшим коллегой знаменитого режиссёра. С детства он был вхож в семью Анатолия Александровича и, наверное, поэтому нуждался в чём-то вроде благословения. Получив его, он подтвердил мне приглашение к совместной работе. Мы договорились об общих принципах нашего дела. Один из них – педантичное соблюдение законов. Кирилл сформулировал этический девиз: не приумножать зла.
Решили, что Юрий Итин оставит за собой взаимодействие с Министерством культуры, вопросы финансирования и общее руководство проектом. Зоной его исключительной ответственности должен остаться финансово-экономический блок. Вся практическая работа, связанная с организацией и производством, легла на меня. Денег не было. Несколько месяцев все работали на чистом энтузиазме, увлечённые идеями Кирилла. Корректировались устав и творческая программа, уточнялись сметы мероприятий и договорённости с участниками. Проект правительственного постановления увязал в согласованиях, регистрация в Министерстве юстиции «Седьмой студии» – некоммерческой организации, которая должна была стать исполнителем проекта, – затягивалась. Обычная история чиновничьей волокиты. Между тем была объявлена дата открытия «Платформы», информация распространялась мгновенно, нарастали ожидания публики. Одновременно увеличивались наши обязательства перед десятками вовлечённых в проект авторов, режиссёров, художников, хореографов, артистов. Центр современного искусства «Винзавод» предоставил нам «Цех белого». Название сохранилось со времени, когда там разливали белое вино. Потом в этом пространстве устраивались художественные и фотовыставки. Цех подходил нам по объёму и пропорциям, но нуждался в ремонте, оборудовании сценической площадки, закулисного пространства и зрительской зоны, а также в мероприятиях по спасению безнадёжной акустики. Внести подрядчикам предоплату мы не могли. Пришлось эксплуатировать популярное имя Серебренникова и моё реноме обязательного, честного продюсера. Мы увлекали партнёров энергией, масштабом и перспективами проекта. На наше счастье, почти все относились к нам с пониманием и доверием, авансировали дорогостоящие товары и работы. В свою очередь мы скрупулёзно и в срок выполняли все свои обязательства. Серебренников сам формировал театральную программу первого сезона «Платформы». Остальные направления курировали прекрасный композитор Сергей Невский, лучший российский продюсер современного танца Елена Тупысева, талантливые медиахудожники Аристарх Чернышов, Алексей Шульгин и Анна Беляева. Все предложили амбициозные и увлекательные идеи, для воплощения которых нужны были оборудование, музыкальные инструменты, костюмы, декорации и, в конечном счёте, деньги. Оставалось совсем мало времени для репетиций. Заключение контрактов с авторами и исполнителями первых представлений уже невозможно было откладывать. Нужно было сформировать эффективную административную и техническую команду. Уговорить большое количество разных людей работать на тех же условиях, на которых несколько месяцев трудились мы, то есть бесплатно и без каких-либо гарантий, было невозможно. Юра и Кирилл вкладывали свои личные деньги, одалживали у друзей. По меркам личных бюджетов это были значительные суммы, но с точки зрения потребностей большого проекта – капля в море.
Тогдашние руководители и специалисты Министерства культуры, надо сказать, поверили в «Платформу» и проявили заинтересованность в ней. Они видели, что «Платформа» ставила перед собой серьёзные художественные и социальные задачи, и понимали, что в творческой и молодёжной среде есть реальный запрос на подобный проект. Для решения текущих денежных проблем был объявлен открытый конкурс на проведение проекта «Платформа». Условия конкурса были жёсткими, никто, кроме учреждённой Серебренниковым «Седьмой студии», не польстился на участие в нём. Полученные от Министерства десять миллионов рублей составляли примерно треть суммы, необходимой проекту до конца года. Вместе с заёмными деньгами мы располагали половиной. Первый транш пришёл в сентябре, за месяц до открытия. Частично дефицит покрывался коммерческим кредитом, который удалось получить под весьма дружелюбный ссудный процент. Недостающие деньги были подвешены как отложенные обязательства. Оплачивать долги предполагалось за счёт субсидии, обещанной на реализацию проекта. Наконец, во второй половине декабря, в разгар первого сезона, было выпущено постановление Правительства, а с марта следующего года началось реальное финансирование. Всё это время мы продолжали экономить, занимать, продлевать обязательства, недоплачивать сотрудникам, включая, разумеется, руководителей проекта.
Об этих трудностях знали лишь непосредственные участники событий. Для публики «Платформа» открылась 7 октября 2011 года феерической премьерой. В одном грандиозном представлении соединились тринадцать небольших музыкальных спектаклей на основе классических и современных оперных арий. Режиссёры, художники, хореографы, артисты, танцовщики и вокалисты из нескольких стран приняли участие в его создании. «Арии» оказались своего рода камертоном, обозначившим масштаб проекта, его уровень и колоссальную интенсивность. Затем последовали спектакли и перформансы «Сон/Dream», «Отморозки», «Метаморфозы», «Сон в летнюю ночь», «Аутланд», «История солдата», «Долина боли», «Четыре квартета», «Охота на Снарка», концерты «Идеи Севера» и «Катастрофа», медиапроект «Жизнь и смерть виртуального художника Газиры Бабели» и грандиозный международный медиафестиваль. Это далеко не полный перечень событий, созданных на «Платформе» только за время моей работы, с октября одиннадцатого года по июль двенадцатого. Два спектакля из этого списка получили «Золотые маски». Проект дал работу десяткам молодых драматургов, композиторов, режиссёров, художников, артистов. В мероприятиях первого сезона «Платформы» участвовали Юрий Любимов, Александр Калягин, Мариэтта Чудакова, Теодор Курентзис, Виктория Исакова, Сергей Капков, Константин Богомолов, Давид Бобе, Наталья Пшеничникова, Такетеру Кудо, Линор Горалик, Светлана Сорокина, Владимир Епифанцев и ещё много хороших людей и выдающихся художников. Я вспоминаю эту работу с профессиональным удовлетворением и гордостью.
Так прошёл год. Летом 2012 года Серебренников получил от руководителя московского Департамента культуры Сергея Капкова предложение стать художественным руководителем Театра имени Гоголя. Меня он позвал возглавить дирекцию театра. Принимая приглашение, я не хотел полностью расставаться с «Платформой» – слишком много сил и времени было вложено в этот проект. К тому же я был уверен, и уверен в этом до сих пор, что никто другой не смог бы выполнить обязанности генерального продюсера более грамотно и эффективно, чем я. Я попросил Серебренникова и Итина дать мне возможность совмещать работу в театре и на «Платформе», но получил отказ. Возможно, их решение было по-своему мудрым. Множество проблем, накопившихся в театре, требовали немедленного решения. Наш приход был воспринят неоднозначно и очень бурно. Большая группа артистов и сотрудников, обленившихся и деморализованных, справедливо почувствовала угрозу своему уютному прозябанию. Я разогнал полдюжины нелегальных арендаторов и прикрыл ряд мелких гешефтов предыдущей администрации. Посыпались анонимные жалобы и доносы, депутатские запросы, в основном от фракции КПРФ, а за ними чуть не ежедневные проверки со стороны трудовой и административной инспекций, пожарного и санитарного надзора, Счётной палаты и различных контрольно-ревизионных служб. Меня без конца вызывали в прокуратуру; протягивая на входе паспорт девушке-полицейской, я как-то услышал: «Да я уже наизусть ваши данные выучила». Центр «Э» проверял спектакли на наличие признаков экстремизма. Какие-то организованные поборники нравственности искали пропаганду педофилии и гомосексуализма. Забавно, что среди попавших под подозрение спектаклей большинство принадлежало другим московским театрам, а некоторые вовсе не существовали. Особенно усердствовал московский профсоюз работников культуры, у которого, казалось, была единственная цель – полностью парализовать работу новой команды. Между тем мы очень быстро приводили театр в порядок, к соответствию элементарным санитарным нормам. Делали ремонт, меняли оборудование. Искали спонсорскую поддержку. А главное, силами принявшей нас части труппы и пришедшей с нами молодёжи был полностью обновлён репертуар. Одним словом, очень скоро всё моё время без остатка поглотили дела «Гоголь-центра», а «Платформа» ушла в область воспоминаний; даже как зритель я не часто успевал посещать спектакли, концерты, выставки и дискуссии продолжавшего интенсивно работать проекта.
Став худруком «Гоголь-центра», Серебренников одновременно продолжал руководить «Платформой». Разумеется, театр и АНО «Седьмая студия» тесно взаимодействовали. На сцене «Гоголь-центра» с успехом шли спектакли, некогда выпущенные «Седьмой студией» на «Платформе», создавалась совместная продукция. Такое сотрудничество не противоречило Гражданскому кодексу и уставам обеих компаний. Каждое мероприятие оформлялось корректным договором и, по завершении, актом выполненных работ с подробным расчётом затрат, доходов и взаимных обязательств сторон. Бухгалтерия вела положенный учёт движения средств. Отчётность была абсолютно прозрачной и достоверной: никогда спектакли «Седьмой студии» не представлялись как новые постановки театра. Со стороны «Гоголь-центра» я скрупулёзно контролировал эти процессы. Мою обычную дотошность и требовательность к коллегам стимулировало понимание того, что мы находились тогда под прицелом многих недоброжелателей, склонных к вранью и доносам, и они не простили бы нам ни малейшей ошибки. То, что происходило на стороне «Седьмой студии», оборот её документов и средств после подписания актов и завершения расчётов я, разумеется, никак не контролировал – для этого у меня не было ни сил, ни времени, ни прав, и я не видел в этом необходимости. Во время моей работы на «Платформе» право проведения любых денежных операций было исключительной прерогативой генерального директора Юрия Итина и главного бухгалтера Нины Масляевой; в банке даже не было образца моей подписи. Катя Воронова, генеральный продюсер «Седьмой студии», пришедшая мне на смену, была уполномочена представлять компанию как в организационных, так и в финансовых вопросах. Она очень жёстко отстаивала интересы «Седьмой студии». Я был не менее твёрд в отношении интересов театра. Каждый наш договор рождался в результате горячей дискуссии, условия многократно взвешивались, а тексты согласовывались и визировались юристами и финансистами.
Естественный театральный процесс устроен сообразно закономерным циклам, которым подчинено развитие любого живого организма. Не претендуя на оригинальность сравнения, эти циклы можно уподобить человеческой жизни. Вначале – бурный рост и радость первых открытий. Затем – пора страстей и терзаний, поисков и заблуждений, побед и разочарований. Им на смену приходит период зрелой, осознанной, продуктивной работы. И наконец, старость, которая в зависимости от содержания прошлой жизни может быть умиротворённой, пронизанной светлой радостью и благостными воспоминаниями, а может быть жалкой, болезненной и раздражительной. Только театральный век гораздо короче: явление рождается и умирает обычно в течение пяти-семи лет. Я имею в виду не формальное образование, не учреждение, а именно художественное явление, основанное на актуальной этической и эстетической платформе. Такие подлинные, чуткие к жизни явления изменчивы во времени, они переживают момент зарождения, достигают кульминации и в конце естественного цикла неизбежно исчерпываются или, скажем так, выполняют свою программу. Сплошь окружающие нас театры-долгожители, за редким исключением, продолжают существовать за счёт инерции былого движения или инерции зрительского принятия. Они не способны чутко реагировать на изменения и вызовы жизни, совершать открытия и находиться в честном и умном диалоге со своим зрителем, побуждая его глубже мыслить и тоньше чувствовать. Этому способствует косная система организации театрального дела в России, навечно приковывающая творческий коллектив к определённой сцене. Человеческие связи в живой, естественно развивающейся системе отношений по определению не могут всегда оставаться неизменными. Личные привязанности, взаимные притяжения и отталкивания, симпатии и антипатии в своё время зарождаются и исчезают. Есть, вероятно, устойчивые союзы, основанные на долговременном общем понимании целей искусства, общности творческого метода и органичной ему организационной формы. Но они исключительно редки. В реальности омертвевших, каменных театров людей привязывают друг к другу обычно не общность целей и убеждений, а вполне прозаические соображения: зарплата, непрерывность трудового стажа, близость к дому, просто привычка. Начиная строить «Гоголь-центр», мы были увлечены амбициозной задачей создания принципиально нового театра, востребованного молодой демократичной публикой и отвечающего её запросам. Такой театр должен быть открытым двенадцать часов в день и не ограничиваться показом спектакля, а предлагать зрителям различные форматы диалога об искусстве и жизни. На гиблом, как считалось, месте мы хотели создать место силы. Нам многое удавалось: поменялась эстетика, режим и интенсивность работы, росли доходы и количество посещений, театр быстро стал популярным. Разумеется, находясь в системе театров московского Департамента культуры, мы встречали массу препятствий и были вынуждены принимать ряд компромиссов. По отношению к нам накапливалось раздражение городского, а следом и культурного начальства. Люди, знакомые с закулисной стороной профессионального театра, с тем, что называется театральной кухней, легко дополнят картину сценами невинных и не очень интрижек, борьбы самолюбий и влияний. Одним словом, жизнь, как говорится, вносила свои коррективы.
В начале пути ни у меня, ни у Серебренникова не было цели выстроить театр исключительно для себя и остаться в нём до конца жизни. И мы всегда понимали, что наше сотрудничество не накладывает ни на одного из нас обязательства вечной преданности. Весной 2015 года стало очевидно, что пришла пора расставаться. Хотя, возможно, с точки зрения целей и интересов строительства нашего театра это было преждевременно. Я испытывал досаду, но объективно сложившиеся обстоятельства подталкивали к такому решению. Обстоятельства эти были созданы отчасти искусственно, намеренно. Я был разочарован позицией Кирилла, но это предмет другого рассказа.
Увольняясь, я посчитал возможным посоветовать Серебренникову обращать больше внимания на дела и делопроизводство в «Седьмой студии». У меня не было повода ставить под сомнение благонамеренность и честность моих бывших коллег, но казалось, что Итин, занятый делами ярославского театра, не контролировал организацию. Добросовестная и преданная проекту Катя Воронова тяготела к творческой работе и не была достаточно компетентна в организационных и финансовых вопросах. Фактически управление оказалось в руках бухгалтера Нины Масляевой. Кирилл ответил мне, что в делах студии полный порядок, что была проведена аудиторская проверка и ничто не вызывает у него беспокойства. К сожалению, последовавшее несколькими годами позже и до сих пор продолжающееся расследование показывает, что он заблуждался.
Нина Леонидовна Масляева представляла собой классический, если не сказать анекдотический тип бухгалтера: пышная лоснящаяся дама в ювелирных украшениях, одновременно болезненная и кокетливая, томная и всегда немного уставшая, не изобретательная, но хитрая. Итин, знавший Масляеву по совместной работе в театре «Модерн», представил её отличным специалистом и пригласил возглавить бухгалтерию в АНО «Седьмая студия». Повадкой и статью Масляева соответствовала заявленной рекомендации: была значительна, снисходительна и загадочна. Квалифицированный финансовый менеджмент был остро необходим: проект нуждался в точном экономическом прогнозе и достоверном графике финансирования. Я рассчитывал на помощь в корректировке смет и уточнении планов. Пора было открывать счета и регистрировать организацию в налоговой инспекции. Разочарование пришло скоро. Нина Леонидовна была нетороплива и ни в малейшей степени не желала вникать в содержание и особенности запланированных на «Платформе» мероприятий. Она не спешила увольняться с прежнего места работы, выжидала, пока директор Итин предложит ей лучшие условия. Я настойчиво предлагал найти другого бухгалтера. Юрий ответил, что доверяет Масляевой и просит больше не поднимать эту тему. Серебренников, выслушав мои претензии, решил не вмешиваться в зону ответственности директора и положиться на его решение. Доверие Итина к Масляевой, на чём бы оно ни было основано, обходилось проекту недёшево. Нина Леонидовна получала самую высокую в организации зарплату. Это объяснялось, во‐первых, большой ответственностью в работе с государственной субсидией, требовавшей строгой и безупречной отчётности. Во-вторых, непомерной нагрузкой: в небольшой компании с ограниченным ресурсом бухгалтер должен был выполнять также функции кассира, делопроизводителя и специалиста по кадрам. Ни того, ни другого, ни третьего Масляева не делала, но активно жаловалась на нехватку времени и сил. Сначала Итин разрешил нанять ей в помощь кадровика. Пришедшая на эту должность Лариса Войкина практически сразу стала совмещать обязанности кассира и вести учёт первичных бухгалтерских документов. Затем, с ведома директора, у главного бухгалтера появилась удалённо работающая сотрудница. Иногда бухгалтер пользовалась услугами водителя. Считалось, что не состоящих в штате «Седьмой студии» помощника и водителя нанимает и оплачивает сама Масляева. Позднее стало известно, что со всеми этими людьми у Масляевой был общий бизнес. А вскоре после того, как на должности генпродюсера меня сменила Катя, а доверие Юры обернулось бесконтрольностью, Нина Леонидовна стала оплачивать их услуги из средств организации.
Прошло два года, и мы стали свидетелями уже упомянутого «маски-шоу». Из прессы было известно, что сотрудников и артистов согнали в зрительный зал театра и, отобрав телефоны, несколько часов держали взаперти. Никто не понимал, что именно искали следователи. Ещё менее было понятно, почему операция проведена с таким несоразмерно громким и нелепым шумом. Итину и Масляевой предъявили обвинение в оплате фиктивного договора на пошив костюмов. Ни с кем из фигурантов этой загадочной истории я не общался, жена Итина Светлана на мой телефонный звонок не ответила. Пересуды знакомых были окрашены в основном тревожным недоумением. Многие считали, что начавшиеся гонения на Серебренникова имеют иную, не экономическую подоплёку, и советовали мне быть осмотрительным, по возможности уехать на время. Я же в легкомысленном прекраснодушии не находил причин для осторожности. Кирилл Серебренников оставался на свободе, что казалось логичным: художественный руководитель не имел прямого отношения к денежным операциям. Но последующие события не оставили сомнений в том, что именно он был главной и, возможно, единственной мишенью инициаторов этого дела. Я не знаю, кто они, эти инициаторы, не знаю, чем Серебренников прогневил их и почему было решено жестоко его наказать. Не буду упражняться в конспирологии и перечислять популярные версии – от политических и религиозных до эротических и эстетических. Как бы то ни было, это люди с большим влиянием, они легко запустили масштабную репрессивную программу. Меня те громкие события обошли стороной, органы проявляли к моей персоне полное безразличие. Поначалу. Волна докатилась только через месяц.
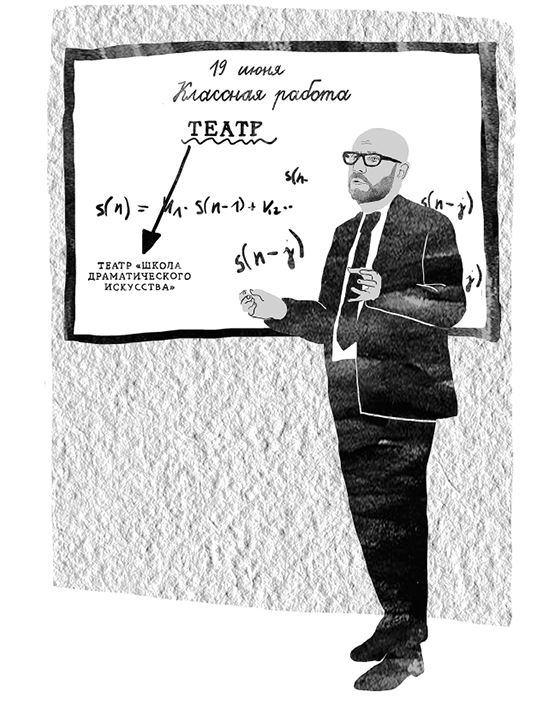
Поздно вечером 19 июня 2017 года меня привезли в изолятор временного содержания на Петровке, 38. Известные по кино процедуры: обыск, фото в фас и профиль, дактилоскопия – как и элементы тюремного антуража (решётки, наручники, позвякивание ключей), – в реальности были лишены романтического налёта, не казались ни значительными, ни пугающими: тупо, обыденно. Даже опасность осознавалась как-то не азартно. Едва теплилось любопытство перед предстоящим, неизведанным. Все эмоции заглушались возмущением и чувством оскорблённого достоинства.
Отобрали ремень, футляр для очков, шнурки, из туфлей вынули супинаторы. Выдали металлическую посуду, комковатый матрац, жидкую подушку и какие-то тряпки, имитирующие постельное бельё.
В трёхместной камере меня встретил только один арестант, назовём его Андрей. Я не успел ещё толком осмотреться, как открылось окошко в двери и коридорный, будто бы сверяя какие-то свои списки, потребовал представиться. Андрей поспешно назвал свою фамилию и статью, такую же как у меня – 159, часть 4. Он подал мне пример, как следует отвечать в подобных случаях. Представился и я. Кормяк закрылся, а мой сосед с деланым изумлением воскликнул:
– О, у вас знаменитая фамилия.
– Чем же?
– Тут недалеко, на Сретенке, есть театр «Школа драматического искусства», там был директор с такой же, как у вас, фамилией.
– Это я.
– Ну неужели, ну надо же!
И Андрей принялся рассказывать о своей любви к театру. Стоит признать, он был неплохо осведомлён: назвал несколько имён артистов и сотрудников. Однако вся ситуация казалась неправдоподобной, искусственной. Живописуя свою беду – так арестанты обычно называют коллизию, приведшую их за решётку, хотя чаще ограничиваются просто номером статьи Уголовного кодекса, – мой новый знакомый рассказал, как посредничал во взяточничестве. Мне это показалось странным. В камере была книжица УК РФ, и я без труда выяснил, что это преступление предусмотрено другой статьёй. Видимо, он запутался в легенде. Разумеется, в первых же строках своего выступления Андрей сообщил, что закон вершат следователи и нужно с ними договариваться, а не полагаться на суд или тем более на адвокатов. В общем, он оказался явной и не очень умелой наседкой.
Я помнил совет адвоката Юлии Лаховой не увлекаться разговорами с сокамерниками, но выполнил его только отчасти. Мне нужны были разрядка и время, чтобы отрегулировать внутренние настройки, попытаться отдать себе отчёт в происходящем, выработать какие-то стратагемы на ближайшее время.
А главное, мне нужно было как-то заглушить беспокойство о Тане. Она тяжело переживает любую несправедливость – вдвойне, если несправедливость касается меня. Я ни на секунду не мог забыть её глаза в ту минуту, когда меня уводили в наручниках. И никогда не забуду. И не прощу тем, кто сочинял и разыгрывал этот гнусный сценарий. Я представлял себе, как, отвечая на бесчисленные телефонные звонки, Таня пытается рассказать о происходящем моей маме и сестре, живущим в Израиле, своим родителям, моим дочерям – и кровь приливала в голову, душило бессильное возмущение несправедливостью и произволом.
Андрей тем временем донимал расспросами. И я на несколько часов включил лектора: хочешь поговорить о театре? Что ж, пожалуйста, мне есть что рассказать. Он слушал с большим и, кажется, искренним интересом, но я не произнёс ни одного слова, которое можно было бы использовать во вред мне или моим бывшим коллегам.
Пробуждение явилось продолжением вчерашнего абсурда, правдоподобность происходящего была сомнительна. По радио «Маяк» торжественно звучал гимн России: «Славься, Отечество наше свободное… – грохотал на каких-то запредельных децибелах хор. – …Славься, страна! Мы гордимся тобой!» Я закрыл уши, а убрав ладони, услышал свою фамилию – чуть не первой шла новость о моём задержании.
Через день из камеры, где много часов мы провели в беседах о театре, меня перевели в другую. «Любитель театра» не оправдал надежд. В новом соседе также с первого взгляда угадывался наседка, но совсем иного рода. Этот должен был меня напугать. Здоровенный мужик в пузырящихся на коленях тренировочных штанах и обнажавшей татуированные плечи майке энергично расхаживал по камере. Заговорил он ещё до того, как за мною захлопнулась дверь. Володя – так он назвался – являл собою квинтэссенцию расхожих, как в плохом кино, представлений о блатном арестанте: жёлтого металла передние зубы, своеобразная дёрганая, будто он весь на шарнирах, пластика, статьи за насильственные преступления, кажется, вымогательство и разбой. И – о чудо! – он знал, якобы услышал по радио, кто такой Серебренников (он произносил «Серебряков»), знал и очень ему сочувствовал: «Ты, по ходу, нормальный мужик, я людей вижу, а этому твоему Серебрякову пиздец как туго в тюрьме прийдётся». Характер его осведомлённости не оставлял сомнений – просвещали местные опера, всегда сотрудничающие со следователями. Он яростно осудил спектакли «с голыми жопами», посетовал на осмелевших «пидоров» и стал заботливо пугать меня тем, что на зоне могут не понять, зачем я работал в таком неблагонадёжном театре. То, что я непременно окажусь на зоне, не ставилось под сомнение. Словарь Володи состоял из пятнадцати матерных слов и пары необычных оборотов. Он непрерывно курил. Исходившая от него угроза несколько компенсировалась его карикатурностью. Я стал расспрашивать. Польщённый моим интересом, он довольно скоро съехал с заданной темы и принялся увлечённо рассказывать о своих уголовных подвигах: «Одному тут по ходу объяснили, ну, в багажник засунули…» – и об опыте пребывания на зоне: «Я тебе как оно есть говорю, людей на зоне подогревать надо, чисто по понятиям». Ёмким словом «люди» Володя обозначал не всю совокупность человеческого рода, а исключительно его сидящую часть. Люди в его рассказах «катаются на тюрьму» и на зону. Временами он спохватывался и ненадолго возвращался к своим обязанностям. Впоследствии я встречал людей, примерно в ту же пору прошедших изолятор на Петровке. Они узнавали в Володе и своего временного соседа. Вероятно, он был там штатным наседкой и таким образом отрабатывал какие-то послабления. Говорил он однообразно, но без умолку. Через несколько часов, взяв в руки потрёпанную книжку повестей Куприна из местной библиотеки, я рискнул предложить ему ненадолго заткнуться. Глагол был выбран точно – кажется, я снискал уважение, а дальнейшие увещевания были уже менее агрессивны. Сигареты у него скоро закончились, он страдал.
В этот же день меня впервые посетили активисты из ОНК – Когершын Сагиева и, кажется, Иван Мельников и Денис Набиуллин. Они сообщили о большом резонансе, вызванном моим арестом, о волне поддержки и о заботе, которой друзья окружили Таню. Через них я попросил передать мне какие-то вещи и в том числе сигареты для моего соседа. Володя был потрясён: «Ну я же вижу, ты нормальный мужик». С другой стороны, его глубоко задело, что избранным (то есть мне) оказывается такое общественное внимание, а ему, честному бандиту, приходится решать свои проблемы самому: «Я тебе говорю как оно есть». Передачу принесли тем же вечером. Курил теперь Володя деликатно в форточку, стал настойчиво угощать чесноком и признался, что в сокровенных грёзах ему видится балерина Волочкова. Ещё через два дня, обнаружив полную неэффективность нашего соседства для следствия, его бросили куда-то на новые подвиги. На столе он оставил для меня головку чеснока, «потому что витамины». Оставшиеся сигареты мы поделили – Володя объяснил, что в тюрьме они играют роль универсальной валюты.
В камеру привели человека в хорошем спортивном костюме и удобной обуви; в кожаном несессере – дорогой парфюм. В отличие от предыдущих соседей, он ничего не знал обо мне и о деле «Седьмой студии», несмотря на то что провёл эти дни на свободе, имея неограниченный доступ к средствам массовой информации. Я понял, что за мной перестали шпионить. Владислав был эрудирован и хорошо образован, закончил институт по специальности «Радиотехника». Фамилию Серебренников – да, возможно, слышал: жена, преподаватель музыкальной школы, третировала его разговорами об искусстве, а то и посещением театров. Они живут в Калуге, но часто выбираются в Москву. Репертуар калужского театра он вынужденно пересмотрел весь и остроумно его высмеивал. Презрительно отзывался о директоре театра, облизывающем губернатора, и потешался над пошлой чугунной скульптурой, «украсившей» город. Попросил разрешения перейти на «ты». Обаятельный и умеренно развязный, он больше рассказывал сам, чем расспрашивал. Об учёбе и службе в армии, о маме – семейном диктаторе, откровенно – о своём преступном промысле. При этом, находясь в нервном возбуждении, он непрерывно прокручивал в уме какую-то параллельную историю, будто что-то просчитывал. В некоем криминальном сообществе Владислав был то ли юристом, то ли экономистом, то ли специалистом по связям с общественностью – в общем, консультантом по всем вопросам; я не понимал точно, но решил не переходить рамки приличного любопытства. Одолживший крупную сумму на строительство торгового центра коммерсант, когда пришло время отдавать долг, подключил друзей-полицейских. Разговоры были прослушаны и записаны, Владислав, который должен был забрать деньги, арестован. Он понимал и принимал предъявленное ему обвинение, предвидел дальнейшее развитие событий и совершенно не смущался перспективами: «Ну что же, нужно немного посидеть». Это была его вторая ходка, и он деловито собирался отбыть положенный срок с максимально возможным комфортом. «Скорей бы суд и на зону, а там всё будет отлично: телефоны, свидания, еда, выпивка. Нормальные люди должны сидеть нормально, – поучал меня новый приятель, – главное – попасть в правильную колонию, идеально – к нам в Калугу, на край, в Тулу…» Не поручусь, что в точности запомнил его наставления. Мне он также пообещал прекрасные лагерные перспективы: «У тебя тоже всё будет нормально, видно же, что мозги есть, к тому же имя публичное и дело резонансное». Последнее заключение он выводил из того, что меня повторно навестили ребята из ОНК. «Будешь где-нибудь в библиотеке сидеть, – продолжал он пророчествовать, – если повезёт, надолго не закроют». То, что непременно «закроют», не ставилось им под сомнение, так же как и предыдущими моими соседями. Все они твёрдо знали, что исключений не бывает. Было бы нелепо рассказывать им, что у меня другие планы.
Владислав прочитал мне краткое, отменно ироничное введение в АУЕ (нет, это не римское приветствие AUE/AVE, это акроним фразы «арестантский уклад един», своеобразного блатного кодекса) и объяснил значение новых для меня слов из нехитрого лексикона Володи. Слова были забавными, звучными, я записал их на листке бумаги: продол, тормоза, кормяк, шконка, дубок, шлёмка, весло, фаныч, марочка, кум, хозяйка… Опущу нецензурные или двусмысленные – я такое не хочу вставлять даже в книжку, – но не могу не поделиться ярким и, как пришлось позднее убедиться, точным определением «объебон» – так называют обвинительное заключение.

Новые слова и неожиданные смыслы известных слов возникали на всём протяжении моего приключения в правоохранительном российском зазеркалье. Я уже упоминал, что разошёлся со следователем в понимании слова «правильный». Игорь Николаевич Федутинов, возглавлявший группу московских следователей, поразил меня реакцией на слова «сделка» и «формальный». Он весь как-то радостно затрясся, когда услышал, что все сделки на «Платформе» проводились в рамках формальных договоров. Сделка в его понимании могла быть исключительно преступной. К моей версии о том, что сделка – это всего лишь обычное соглашение между людьми или организациями, например торговая или биржевая сделка, капитан Федутинов отнёсся с большим недоверием. Он также был убеждён, что «формальный» имеет единственное значение – ложный, фиктивный, созданный для прикрытия истинных и, разумеется, преступных (а каких же ещё?) намерений. Нет, нет, убеждал его я, в данном случае это значит, что договор составлен корректно, соответствует требованиям делопроизводства и снабжён определёнными реквизитами; такой формальный договор должным образом подписан, заверен печатью и зарегистрирован. Капитану не нравилось моё занудство. Он рассчитывал, что после ночи, проведённой на Петровке, я буду сговорчивее и дело заспорится.
Допрос проходил в одном из следственных кабинетов ИВС на следующий день после обыска и моего задержания. Кажется, ничего более нелепого и неправдоподобного, чем тот разговор, в моей жизни до тех пор не происходило. Не скажу, что я питал какие-то иллюзии относительно когнитивных возможностей и нравственных принципов блюстителей наших законов, но капитан Федутинов сумел меня удивить. Мало того что уголовное дело, в рамках которого были проведены обыск и моё задержание, было возбуждено по событию 2014 года, то есть произошедшему почти два года спустя после моего увольнения из «Седьмой студии», так ещё и возбуждено дело было в отношении других людей – Итина и Масляевой; моё имя там ни разу даже не упомянуто. Я, из наивного побуждения помочь следствию, терпеливо растолковывал это. На какой-то миг показалось, что следователь сумел связать в голове события и даты. Но не смутился. Не таков был хитроумный капитан Федутинов. Он нашёл подкупающее простотой и изяществом решение: обвинение, которое он мне предъявил, вообще никак не стыковалось с описанием «преступного эпизода» в деле. То есть обвинение было выдвинуто, а уголовное дело не заведено. Адвокат Лахова удержала меня от возражений, посчитав, что этот убедительный аргумент стоит поберечь для суда, который при таких нарушениях согласно процессуальному закону не может даже принять к рассмотрению ходатайство об избрании меры пресечения.
Наконец выяснилось, в чём конкретно меня обвиняют. Фабула обвинения была столь неправдоподобно дикой, что меня это даже обрадовало: назначенный на следующий день суд я посчитал выигранным. Капитан утверждал, будто спектакль «Сон в летнюю ночь» на «Платформе» никогда не был поставлен; следовательно, деньги похищены. Нелепость этого утверждения была слишком очевидной, а собрать свидетельства того, что не существующий по версии следствия спектакль на самом деле был вовремя выпущен и много лет пользуется зрительским успехом, не составляло труда. В течение пяти лет его увидели десятки тысяч зрителей, это не сложно подтвердить отчётами и корешками проданных билетов. Все участники спектакля, хвала всевышнему, живы, их просто нужно опросить. Декорации, костюмы и реквизит сохранны, можно их увидеть, пощупать и оценить. Имеются многочисленные фотографии и видеозаписи, рецензии и репортажи средств массовой информации. Такие аргументы и факты должны быть доступны даже усталому сознанию пытливых борцов с преступностью.
Однако адвокат Юлия Лахова, к моему удивлению, нервничала. В отличие от меня она знала, что истина интересует следствие в последнюю очередь. Для того чтобы упрятать человека в СИЗО, сгодится любой повод. И чем он нелепее, тем опаснее: значит, никто и не планирует разбираться в фактических и логических ошибках. При известной дружбе следственных органов с судом сам факт появления ходатайства о помещении обвиняемого под стражу предопределяет решение. Мне ещё только предстояло десятки раз услышать, как наряженные в мантии куклы обоего пола твердят заученную мантру о том, что у них нет оснований не доверять доводам следствия. То, что эти доводы всегда были голословны, а часто просто лживы, не поколебало ни одного судью. Было уже понятно, что меня взяли в заложники. Я и мои мнимые преступления интересовали следствие не сами по себе, а лишь постольку, поскольку могли дать повод для обвинения Серебренникова. Нужна была история о том, как организованная им преступная группа совершила крупное мошенничество. Задача, поставленная Федутинову неизвестным мне заказчиком подлого сценария, сводилась именно к этому. И капитан, как умел, коряво, но неутомимо шил этот сценарий. Сотворчество наше, как и накануне, не заладилось. Я проявил готовность сообщить все известные мне подробности организационной, производственной и финансовой жизни АНО «Седьмая студия» и проекта «Платформа». Но информация, которой я располагал, не содержала фактов противозаконной деятельности, а потому не интересовала капитана.
Он, вероятно, готовился к допросу и самодовольно считал себя вполне сведущим в вопросах культуры. Пытаясь не мытьём, так катаньем всё же выжать из меня правильные показания, он начал загребать широким неводом и постепенно выкладывать козыри. Факты моих преступлений казались ему убийственными. Два наших диалога, уже превратившихся в расхожие анекдоты, состоялись в ходе именно того допроса. Невозможно удержаться, чтобы не повторить их здесь. Первый диалог капитан посвятил проблеме авторского права.
Капитан: У «Седьмой студии» есть авторские права на пьесу «Сон в летнюю ночь»?
Я: Авторское право распространяется на произведения, авторы которых живы или умерли менее чем за 70 лет до исполнения произведения на сцене.
К.: Ну…?
Я: «Сон в летнюю ночь» написал Шекспир.
К.: Не понял, так есть права или нет?
Я: Шекспир умер в XVII веке.
К.: Так есть права??!! Или нет??!!
Я: Со времени смерти Шекспира прошло больше 70 лет. Он умер раньше. Следовательно, права автора или его наследников законом не охраняются.
К.: А тогда почему вы эту пьесу поставили в «Седьмой студии»?
Я:???
К.: Какая у вас основная деятельность по уставу?
Я: Дословно не помню… Производство и прокат спектаклей, концертных программ и других произведений современного исполнительского искусства и мультимедиа.
К. (торжествующе потрясает уставом организации): Нет! Ваша основная цель – пропаганда современного искусства! Значит, вы вообще не имели права эту пьесу ставить!
Я:??? Почему?
К.: Она же НЕ современная!
Я: Видите ли, в театре произведением является не сама пьеса, а спектакль, созданный на её основе. Современными могут быть трактовка, сценический язык, актёрская техника, сценография… Молодому драматургу Печейкину была заказана оригинальная редакция пьесы, так сказать, версия театра, и права на неё принадлежат «Седьмой студии»
К.:???…
Я: Могу что-то ещё пояснить?
К.: Нет. Достаточно. Так мы запутаемся. Расскажите лучше, зачем вам рояль понадобилась?
(Второй диалог был о музыке.)
К.: Итак. Рояль-то вам зачем?
Я: Главным образом, чтобы музыку исполнять.
К.: А купили зачем?
Я: Вот как раз за этим. Исполнять. Музыку. Это одно из направлений работы «Седьмой студии». По уставу. Вот и купили.
К.: За пять миллионов?
Я: За пять.
К.: Права не имели.
Я: Ну почему же? Гражданский кодекс не против, допускает.
К.: Пять миллионов?
Я: Да. Пять.
К.: А на самом деле?
Я: То есть???
К.: Сколько эта рояль стоит на самом деле?
Я: Этот на самом деле дороже. Мы договорились с поставщиком о хорошей скидке и рассрочке.
К.: Да?
Я: Да.
К.: Зачем рояль за пять миллионов?
Я: Это хороший рояль.
К.: Зачем?
Я: Мы заказывали сочинение музыки талантливым композиторам. И исполнители были выдающиеся. Очень требовательные к звуку. В конце концов, качество звучания – это и уважение к публике. Поэтому был необходим хороший и, следовательно, относительно дорогой рояль. Специалисты вам скажут, что для хорошего инструмента это небольшая цена.
К.: Надо было в аренду брать!
Я:???
К.: В аренду сколько стоит?
Я: Такого класса инструмент, я думаю, тысяч пятьдесят в день. Два дня публичных показов плюс один репетиционный день… Стоимость перевозки, такелажа, настройки давайте проигнорируем в целях научной абстракции. В общем, сильно занижая, 100 тысяч рублей.
К.: Вот! Сравните!
Я: Что с чем сравнить?
К.: Аренду и покупку. Сто тысяч и пять миллионов!
Я: Хорошо. Давайте. За три года и три месяца проведено примерно сто тридцать мероприятий с использованием рояля. Умножив на сто, получим тринадцать миллионов в качестве платы за аренду чужого инструмента. С другой стороны – пять миллионов за рояль в собственности. И срок его службы гораздо больше, чем три года и три месяца. Согласитесь, это рачительное отношение к деньгам.
К.: Государственные деньги нужно расходовать не рачительно, а правильно. Правильно – брать в аренду.
Я: Но за рояль предполагалось платить не государственными, а собственными средствами организации.
К.: Вы меня опять запутываете. Не имели права! Понятно?
Я: Нет.
Не понятно до сих пор. Но мысль о преступном рояле при дефиците более убедительных идей, видимо, будоражила воображение не только капитана Федутинова.
Вопросы про несчастный рояль ещё много раз повторялись в допросах следователей и судей. Директор Артистического центра компании «Ямаха Мюзик (Россия)» Оксана Левко, в своё время помогавшая выбрать этот инструмент, в шутку сказала мне, что не рассчитывала на столь долгую и эффективную рекламную кампанию.
Утомительный, несколько часов длившийся допрос был остановлен по просьбе адвоката. Оставшуюся часть дня она посвятила сбору доказательств, опровергающих нелепые обвинения. Следователь Федутинов, обескураженный моей несговорчивостью, неожиданно впал в благодушие и даже произнёс что-то вроде комплимента. «А вы хорошо держитесь, – сказал он, – коллегам вашим тут по три раза скорую помощь вызывали». И со значением добавил: «Зато они много чего о вас рассказали». Возможно, я должен был услышать в его словах не комплимент, а угрозу или последнее предложение начать давать «правильные» показания. Но я недогадлив. На нескольких листочках протокола, предложенных мне на подпись, не нашлось места для многих подробностей нашей беседы, а в конце сообщалось, что допрос не закончен и будет возобновлён на следующий день. Однако этот допрос так никогда и не был завершён.

Тем временем как на Петровке, 38 новый дивный мир являл мне свои причудливые гримасы или, лучше сказать, корчил рожи, на воле разворачивался активный протест против моего задержания.
Прямо из московского управления Следственного комитета на Новокузнецкой улице Таня отправилась в «Галерею на Солянке». Директор галереи Маша Тырина, наш друг и в прошлом моя коллега по «Гоголь-центру», пригласила нас на артистическую вечеринку. Среди гостей было много наших знакомых, все были настроены на задушевное общение и беззаботное веселье. Появление Тани и новость о моём аресте мгновенно изменили настроение, вечеринка превратилась в штаб. Написали и распространили по соцсетям письмо поддержки, объявили сбор подписей. А Таня отправилась на Страстной бульвар, где в «Новом пространстве театра Наций» по случаю открытия выставки также собрались коллеги и друзья. Почти все уже знали о моём аресте и искренне пытались поддержать и утешить Таню.
Если попытаться найти в печальной хронике «театрального дела» хоть что-то позитивное, то, безусловно, это общественная реакция на моё задержание. Сначала друзья и большинство коллег, затем журналисты и правозащитники, а вслед за ними неизмеримо огромный круг знакомых и незнакомых людей воспротивились несправедливости и беззаконию. Я храню благодарность всем, кто не усомнился в моей честности и долгие месяцы боролся за мою свободу и доброе имя, всем, кто переживал и сочувствовал мне. Возможно, причина такого знаменательного отклика не во мне лично, и не в моей репутации, и даже не в том, что главным героем театрального дела был Кирилл Серебренников с его многочисленным фан-клубом. Дело в том, что обществу продемонстрировали не только абсурдное обвинение, но и циничный беспредел следователей и позорную зависимость судей. Оказалось, что для преследования не нужны объективные причины – достаточно чьей-то воли, способной запустить репрессивную машину, которая исходит из презумпции заведомой вины всякого, кто попадает в её жернова. Обществу наглядно продемонстрировали, что в моём положении может легко оказаться любой. И обществу это не понравилось.
Я не перестаю восхищаться моей женой. Её красотой, энергией, волей, умом и терпением. С потрясающим достоинством она приняла брошенный ей вызов и выдержала непомерные испытания. Никто не бывает готов к подобным событиям. Растерянность и неуверенность – нормальная реакция на них. Непримиримая к любой подлости и несправедливости, Таня вдвойне была возмущена и оскорблена беззаконием по отношению ко мне. Она сумела быстро собраться и начать действовать. Никто не знает, какого напряжения сил и нервов стоили ей бесконечные звонки, письма, ходатайства, поручительства, встречи, объяснения, просьбы, консультации адвокатов. Одновременно приходилось осваивать непростую науку жены заключённого, разбираться в перечнях разрешённых к передаче вещей, продуктов, лекарств и выстаивать очереди в ИВС и СИЗО, выдерживать тупое равнодушие и хамство тюремных прапоров. При этом нужно было работать, готовиться к открытию сезона в творческом центре «Среда». Пришлось регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В связи с недавней покупкой квартиры у меня оставались непогашенные банковские кредиты, которые в новых обстоятельствах предстояло выплачивать моей жене. Ремонт в новой квартире не был завершён, и переехать туда не было возможности. В нашу съёмную квартиру должны были въехать уже новые жильцы; вещи и книги пришлось поместить на арендованном складе, а Тане попросту негде было жить. И при этом она каждый день писала мне письма, наполненные любовью, заботой и юмором.
Счастье, что нас окружают друзья! Несколько человек предложили Тане жильё. Полгода она прожила в квартире Маши Шустиной и Петра Рофина. Многие поддержали деньгами. Маша Тырина, Лена Тупысева, Лена Ковальская, Надя Конорева взяли на себя часть забот о передачах и посылках. Ксения Ларина, Зоя Светова, не считаясь со своим временем, помогали в контактах с государственными органами и правозащитными организациями, будоражили общественное мнение в СМИ. Ира Кузьмина, Полина Стружкова, Маша Кривцова и ещё много прекрасных людей всегда были рядом с Таней, готовые поддержать и делом, и словом, и уместным молчанием.
За две ночи и один день, прошедшие от ареста до суда, было собрано больше ста подписей под письмом в мою защиту и несколько десятков поручительств. Отозвались Александр Калягин и Сергей Женовач, Кама Гинкас и Генриетта Яновская, Владимир Урин и Мария Ревякина, Виктор Ерофеев и Лев Рубинштейн, Евгений Асс и Наум Клейман, Александр Маноцков и Сергей Невский, Юлия Ауг и Чулпан Хаматова, Константин Райкин и Виктория Исакова. Мгновенно включился в борьбу за меня Михаил Бычков, а с ним и артисты Воронежского камерного театра. Из Петербурга пришли письма от Льва Абрамовича Додина и Андрея Могучего. К ним в разных городах присоединись десятки знакомых и незнакомых людей с менее известными именами. Коллективные поручительства пришли от Ассоциации театральных критиков и от Гильдии театральных менеджеров. Переводчик Ольга Варшавер создала в «Фейсбуке» закрытую группу «В одной лодке с Алексеем Малобродским», которая быстро собрала больше тысячи подписчиков. Невозможно, к сожалению, назвать всех, кому я обязан поддержкой.

Конвой, защёлкнув наручники на моих запястьях, помог спуститься по ступенькам автозака и ввёл меня в просторный вестибюль Пресненского районного суда города Москвы. Мы оказались перед большой группой людей. В первых рядах толпились журналисты. Трещали затворы фотоаппаратов.
Я не сразу увидел встревоженное, осунувшееся лицо Тани, и впервые меня пронзило то сложно составленное чувство, которое потом я испытывал на каждом судебном заседании, в тех единственных обстоятельствах, где на протяжении нескольких месяцев мы имели возможность общаться только глазами, без права поговорить и прикоснуться друг к другу. Это чувство состояло из смеси беспредельной нежности и восторга по отношению к жене и одновременно из лютой ненависти к мерзавцам, из-за которых она была вынуждена претерпевать столько мучительных невзгод. Это чувство мотивировало моё сопротивление, заставляло бороться, придавало решимости. Самоуверенные ничтожества в форменных мундирах посчитали меня лёгкой добычей, слабым звеном, от меня ждут удобных, лживых показаний? Вы их не получите! Ничего, кроме правды, потому что единственные преступники здесь – это вы, господа следователи. Устроили мне экзамен? Что же, я готов его выдержать. Танины глаза обещали мне понимание и поддержку.
За столом в центре судебного зала сидели следователь Федутинов в белоснежной рубашке и прокурор Алисов в рубашке голубой. Оба поблёскивали золотыми звёздочками, по четыре на каждом плече, – два капитана. Оба излучали безмятежность и самодовольство, улыбались. Напротив сидела адвокат Юлия Лахова, обложившись добытыми вчера документами: эфирными справками, фотографиями, показаниями опрошенных ею свидетелей (зрителей и участников спектакля «Сон в летнюю ночь»), характеристиками и поручительствами. В отличие от расслабленных капитанов она была напряжена в ожидании боя.
Впустили публику. Рядом с Таней – Ксения Ларина, Лена Ковальская, Маша Тырина, Надя Конорева, Сергей Женовач, Саша Маноцков, Толя Голубовский, Евгений Асс, Наум Ихильевич Клейман… Стало спокойно и даже будто весело; вспомнилось, какими гнилыми белыми нитками наскоро смётано обвинение. На вопрос кого-то из журналистов, как я себя чувствую, я искренне ответил: теперь гораздо лучше.
Секретарь Абубекярова велела всем встать. Вошла миловидная женщина в чёрной мантии – федеральный судья Татьяна Михайловна Васюченко. Её имя тогда ничего мне не говорило, но позже, читая о ней, я непременно встречал превосходные эпитеты – «одна из самых известных и опытных московских судей». Судила она не кого попало – например, в недавнем прошлом Евгению Васильеву или Никиту Белых в недалёком будущем. Профессиональную карьеру в девяностые она начинала помощником следователя, потом помощником прокурора. С тех пор так и продолжала им неизменно помогать. Заседание об избрании мне меры пресечения началось. Федутинов лениво сообщил, что я обвинён в особо тяжком преступлении, предусматривающем наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. К моему и, кажется, всеобщему изумлению, он поведал, что располагает результатами наружного наблюдения за мной, из которых следует, что я, имея второе гражданство Государства Израиль, непременно скроюсь от следствия и суда, а также уничтожу важные доказательства своей вины, что буду запугивать свидетелей и, используя связи в Правительстве, окажу влияние на ход следствия. С кем именно и каким образом я связан в Правительстве, Федутинов не сообщил. Потом я узнал, что этот стандартный набор формулировок под копирку тиражируется следователями и кочует из процесса в процесс. Тогда же, слушая эту невероятную ахинею, невозможно было отделаться от ощущения, что всё это розыгрыш.
Много месяцев спустя, изучая материалы завершённого уголовного дела, я обнаружил, что посвящённая мне справка о проведённых в отношении меня оперативно-разыскных мероприятиях была подписана всего на день раньше даты суда, когда я уже был задержан и отправлен в изолятор временного содержания. Кроме того, судя по аналогичным отчётам о «наблюдении» и «наведении справок» в отношении других фигурантов, оперативно-разыскные мероприятия обставляются обязательным набором документов: поручений, постановлений, писем, собственно справок. В моём случае комплект был неполным, а поручение, на основании которого якобы принималось решение о проведении слежки, касалось не меня, а Масляевой и Итина. Из этого следует, что оперуполномоченный 1-го направления 11-го отдела Управления по защите конституционного строя 2-й службы ФСБ старший лейтенант С. А. Авдеев не только выдумал эту бессовестную чушь, но и подтасовал служебные документы своей конторы.
Довольно скоро Федутинов приступил к изложению конкретного эпизода моих преступных деяний. Он сообщил суду, что спектакль «Сон в летнюю ночь» не был поставлен. Каждый из присутствовавших в зале спектакль видел. Раздался смех. Казавшаяся поначалу обаятельной судья Васюченко вдруг зазвучала сталью – пригрозила закрыть заседание для публики. Напрасно адвокат Лахова рассказывала суду, что успешный спектакль десятки раз был показан тысячам зрителей, что он номинировался на премию «Золотая маска», о чём свидетельствуют протоколы экспертного совета, что спектакль побывал на гастролях в Париже, что объёмные декорации и костюмы при желании можно увидеть хоть сейчас… ничто не убеждало одну из лучших московских судей Васюченко. Адвокат попросила приобщить к делу многочисленные рецензии с фотографиями спектакля. Неожиданно взвился капитан в голубой рубашке, прокурор Алисов. Он заявил, что рецензии в газетах не доказывают факт существования спектакля, а у следователя может быть своё мнение на этот счёт. Публику при этих словах затрясло нервным хохотом. По приказу судьи двух человек удалили из зала. Пристав, выводивший артиста Серёжу Васильева, с негодованием вопрошал: цирк вам здесь, что ли? Похоже, что да, ответил кто-то из журналистов.
Демонстративное и циничное пренебрежение прокурора логикой и фактами оставило у всех чувство брезгливого недоумения. А его непреклонный солипсизм с горьким юмором описали авторы нескольких репортажей из зала суда.
Показательно, что А. Н. Алисов служил в отделе по расследованию особо важных дел Управления по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета РФ прокуратуры города Москвы.
Недавно в «Вестнике государственного и муниципального управления» (2014. № 3(14)) я обнаружил подписанный им научный труд «Конституционные функции прокуратуры в России и зарубежных странах: сравнительный анализ». Вот несколько цитат из этого труда. Алисов пишет, что прокуратура Российской Федерации, «символизируя публичный сектор правозащитной структуры российского общества, обеспечивает защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина самостоятельно и во взаимодействии с судами. Кроме того, на прокуратуру возложены задачи надзора за соблюдением законности… Эти и ряд других функций прокуратуры приобретают свойство системного единства и взаимосвязанности при условии, что её деятельность органически связана с демократическими основами конституционного строя, направлена на реализацию основополагающих конституционных принципов и норм». Он с неодобрением сетует на то, что в Албании, Грузии, Италии и Литве «основной конституционной функцией… прокуратур является уголовное преследование». А в заключение напоминает нам, что «современный российский конституционный строй основывается на принципах гуманизма, высшей ценности человека, верховенства его прав и свобод. Статья 2 Конституции РФ определяет, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства, его органов и должностных лиц. Статья 46 Конституции РФ гарантирует эффективность судебной защиты прав и свобод. Данные конституционные установления направлены на достижение социально значимой цели построения в России подлинно правового государства. Вместе с тем функции российской прокуратуры не нашли достаточно ясного выражения на конституционном уровне, и в значительной мере доминирует подзаконное регулирование функций прокуратуры».
Нельзя не заметить, что учёные потуги прокурора противоречат его практике. На заседании Пресненского суда поборник конституционных прав и свобод откровенно и угодливо обслуживал позицию следствия. Впрочем, мне скоро пришлось убедиться в том, что пренебрежение не только духом, но и буквой закона характерно для всей современной российской правоохранительной системы. Беспринципная демагогия, трусливый цинизм и угодливая ложь – вот негласный кодекс корпорации следователей, прокуроров и судей.
Завершая выступление в прениях, адвокат Лахова обратила внимание судьи на полдюжины процессуальных нарушений, в частности, на отсутствие возбуждённого в отношении меня уголовного дела. Подробно ссылаясь на положения закона, она говорила о том, что обоснованность ходатайства следователя должна быть подтверждена фактами и документами, что в нашем случае следствие не располагает ни одним сколь-нибудь правдоподобным доказательством. Что в течение месяца после возбуждения уголовного дела в отношении Итина и Масляевой я ни разу не предпринял попытки покинуть страну, а конфискация следствием моих документов технически исключает такую возможность. В ответ судья заявила, что «не имеет оснований не доверять следствию». Какие основания у неё и сотен её продажных коллег доверять голословным утверждениям следствия, остаётся до сих пор невыясненным.
Явно скучая, судья Васюченко выслушала выступивших в мою защиту Сергея Женовача и Александра Маноцкова, без интереса приобщила предъявленные адвокатом характеристики и поручительства. Из этих выступлений и документов следовало, что я человек достойный, добропорядочный и законопослушный, что я дорожу своей профессиональной репутацией, а потому больше всех заинтересован в установлении истины и не буду чинить препятствий расследованию. В ответ судья глумливо подчеркнула в постановлении, что принимает решение «с учётом личности обвиняемого».
Решение гласило: удовлетворить ходатайство следствия о заключении обвиняемого, меня то есть, под стражу сроком на один месяц.
Готовясь к своему первому в жизни суду в качестве обвиняемого, я прочитал в Уголовно-процессуальном кодексе, которым меня снабдила адвокат, что к суду нужно обращаться «Ваша честь». Это очень красиво. Пока одна из самых опытных московских судей Татьяна Михайловна Васюченко нечленораздельно бубнила текст своего постановления, у меня в голове всплывали слова Достоевского из «Бесов»: «Русскому человеку честь только лишнее бремя… открытым правом на бесчестие его скорей всего увлечь можно».
Юлия Лахова, действующий адвокат, конечно, имела представление о нравах отечественного судопроизводства. На остальных же столь откровенное пренебрежение здравым смыслом и очевидными фактами произвело шокирующее впечатление. Шокирован был и я. Однако не подавлен. В ходе этого заседания моя естественная реакция самозащиты превратилась в принципиальную позицию сопротивления произволу и давлению. Я чувствовал за собой правду и был возмущён покушением на моё честное имя. В своём выступлении я внятно заявил, что ни при каких обстоятельствах не стану оговаривать ни себя, ни Кирилла и ни кого бы то ни было.
Две недели спустя, рассматривая жалобу моего адвоката, прокурор апелляционного отдела Уголовно-судебного управления прокуратуры города Москвы Ф. А. Юсупова безусловно поддержала доводы ходатайства следствия, а судья Мосгорсуда Юрий Анатольевич Пасюнин, не обнаружив правовых и логических нарушений, оставил решение Пресненского суда в силе. Судью Пасюнина, замечу, нельзя упрекнуть в непоследовательности: он неизменно оставляет в силе сомнительные приговоры судов первой инстанции. Это он отклонил апелляционные жалобы Pussy Riot (кроме Самуцевич), десятка фигурантов «Болотного дела», Надежды Савченко – богатая биография, серьёзная репутация.
Это было лишь началом бесстыдной череды неправедных судов. Несомненно, что принимавшие в них участие следователи, прокуроры и судьи сознательно совершали преступления против закона и совести. Каждого я назову его подлинным именем, поскольку убеждён, что зло не абстрактно, его вершат конкретные люди. И эти люди, безжалостно ломающие чужие судьбы, должны быть наказаны. Если не законом, то как минимум нашим презрением.

Во время заседания в Пресненском суде меня держали в клетке за решёткой, будто ожидая, что я стану кидаться на людей. С этим специфическим унижением я тогда познакомился впервые. После оглашения постановления, когда её честь покинула зал, ко мне вместе с адвокатом подошёл следователь. Он, казалось, излучал дружелюбие, звучал примирительно. Сказал, что в ИВС на Петровке меня оставят насколько возможно долго, он уже согласовал это с начальством. Вероятно, подразумевалось, что условия содержания в ИВС лучше, чем в СИЗО, куда меня по решению суда должны были отправить на время проведения следствия, и такая своеобразная забота обо мне как бы оставляла надежду на быстрое завершение произошедшего недоразумения. А может, он рассчитывал, что расписной бандит Володя убедит меня сотрудничать со следствием. Или, скорее всего, он уже знал, что расследование передаётся из московского в Центральное управление СК РФ, и всё ему было безразлично.
Так или иначе, больше капитана Федутинова я не видел. Но хорошо запомнил. Его образ у меня ассоциируется с персонажем комедий, которыми Плавт потешал римский плебс. Изворотливый, но недалёкий раб, он в равной степени презирает людей, на которых его натравили, и своих хозяев, чьи распоряжения он вынужден выполнять. Тщеславие и бахвальство в нём соседствуют с глупостью и никчёмностью. Подобно Псевдолу он объявляет себя полководцем, готовящим штурм города, но, оставшись наедине с публикой, признаётся, что не имеет никакого плана. А то предстаёт поэтом, баловнем удачи, но в конце пьесы оборачивается жалким, икающим, нетвёрдо стоящим на ногах пьяницей. Я дал Федутинову прозвище Хитрый раб Псевдол. И сделал первую запись в моём маленьком личном бестиарии.
После суда я провёл в ИВС ещё неделю. Никаких следственных действий не проводилось. Ходатайства о продолжении незаконченного допроса остались без ответа.
Между тем в Москву вернулась и энергично включилась в мою защиту Ксения Карпинская. Прекрасные адвокаты – моё большое везение. Юлия Лахова, готовившаяся стать матерью, деятельно была с нами ещё несколько месяцев. Бескомпромиссная Ксения Карпинская защищает меня до сих пор.
Наконец 29 июня меня вновь погрузили в автозак и долго возили по Москве два конвоира: подвижный деревенской наружности рябой парень и дородная, лет тридцати, а может, и сорока, не поймёшь, баба. Охранница была невестой. По мобильному телефону она длинно рассказывала подруге Наташе, что Васильич наконец сподобился сделать ей предложение и о том, какая будет свадьба, и что она уже купила бельё. Рябой напарник слушал её и отпускал скабрёзные шутки. Судя по репликам, жених Васильич служил в одном с ними конвойном полку, и парень был с ним хорошо знаком, но при этом весьма откровенно хватал невесту за ляжки, облачённые в форменные штаны, поверх которых болтались наручники и кобура с пистолетом. Моё присутствие никого не смущало. Ехали долго и путано. Стояли у каких-то судов и полицейских отделений, кого-то ждали, бегали за водой и сигаретами, обсуждали службу с невидимыми мне судебными приставами и другими конвоирами из области, сравнивали зарплаты: у нас сутки через двое – а у нас двое суток в неделю – о, пойду к вам работать! – а платят сколько? – бывает до тридцати тысяч – нет, не пойду, у нас больше… Через решётку, расположенную под углом к узенькому грязному стеклу в двери автомобиля, я почти ничего не мог рассмотреть и увлечённо пытался угадать, по каким улицам и в каком направлении мы едем. Была середина лета, поздние, ленивые сумерки, странный свет и неожиданная тишина, будто машина катится не в центре никогда не засыпающего мегаполиса, а по окраине маленького городка. После десяти дней, проведённых в изоляторе на Петровке, я вдруг понял, что остро скучаю по Москве; никогда раньше, хотя случалось уезжать и на более длительное время, я не испытывал подобного чувства. Тогда я ещё не мог представить себе, что расстаюсь с этим суматошным и прекрасным городом почти на год.
Через несколько месяцев я вспомнил эту невесту-вертухая, когда из СИЗО меня везли в суд на очередное продление меры пресечения. Такая же долгая поездка, такой же бесконечный и беззастенчивый разговор по телефону. Молодая женщина, под форменной одеждой расплывшееся тело, жаловалась подруге на своего сожителя, который злился из-за того, что дочь рассказчицы, девочка-подросток, не оказывает ему должного уважения. Потом жаловалась на саму эту дочь, потом громко оповещала о каких-то явно для меня излишних подробностях своего здоровья, потом рассказывала о необходимости делать запасы у матери в деревне, о том, что все дрова уже порубили и надо бы их сложить… В общем, «всюду жизнь», художник Ярошенко. Пару раз она переключалась на разговор со своей пожилой матерью, и в её голосе нотки заботы перемешивались с раздражением, нежность – с грубостью. Речь обеих тёток была примитивна, но в то же время образна; темы вроде незамысловатые, но смысл порой безнадёжно терялся. Казалось, что они говорили на языке, который я знал когда-то раньше, потом забыл, и вот теперь узнаю́ его заново.
Женщины на этой работе встречаются реже, чем мужчины, и – надеюсь, не оскорблю ничьи феминистические чувства – воспринимаются менее органично. Поэтому больше соблазн рассмотреть в них что-то индивидуальное, особенное, возможно, даже симпатичное, как-то вычленить их из обезличенной массовки в форме, нафантазировать историю, которая объясняла бы и оправдывала выбранный ими способ добывать хлеб насущный. Разумеется, конвоиры, судебные приставы и рядовой состав тюремной охраны мужского пола тоже неоднороден. Встречаются порой интересные персонажи и редкие проявления нормальных человеческих чувств. Порой и редко. В целом эта непомерно многочисленная профессиональная группа оставляет впечатление убогой и хмурой массы. И я испытываю не разрешённое до конца подозрение, что мы часто ищем в этих людях сложность, а в их судьбах – драматизм лишь потому, что желаем польстить своей гуманистической картине мира, основанной на литературных представлениях о жизни. Если моё печальное подозрение справедливо, то людям этим, вероятно, можно и нужно сочувствовать, сожалеть о них, но нельзя принимать и оправдывать зло, которое они объективно собой являют. Самая очевидная причина их выбора – безысходность, нищета, отсутствие достойной работы и каких-либо перспектив. На этом фоне зарплата вертухая, сопоставимая со средней по стране, и место в общежитии – серьёзный стимул. Большинству, увы, не суждено выйти за пределы узко очерченного круга их серой, казарменной по сути жизни. Они быстро проникаются завистливым неодобрением к более успешным согражданам, и это питает их социальную ненависть, когда последние оказываются в их власти за решёткой. С другой стороны, развивается спесивое отношение к тем, кто не достиг даже их уровня. Встречаются и откровенные садисты. Уж не знаю, реализуют ли они в системе свои врождённые наклонности или система воспитывает в них садизм как убеждение и поведенческую норму.
Я помню поразившую меня разницу в обликах двух женщин, разносивших задержанным еду на Петровке (сознательно избегаю слова «баланда» – в отличие от кормёжки в СИЗО, эта еда была, в принципе, съедобной). Женщины носили не форму, а халаты. Видимо, они были гражданскими служащими ИВС. Одна, сердитая толстуха неопределённых лет, уверенно гремела металлической посудой и покрикивала на заключённых – не было сомнений, что она здесь очень давно. Несмотря на ругань, резкие движения и энергичные перемещения, она смотрела каким-то тусклым, застывшим взглядом, всем своим видом воплощая уныние и безнадёгу. Вторая – не от сего мира, молодая, статная, светловолосая – была как-то безукоризненно красива и тиха. Как такая девушка могла оказаться в этом месте среди этих людей, представлялось тайной, напоминало о ранних романах Достоевского. Сопровождал её всегда один и тот же тупой громила, который с наслаждением хамил и откровенно щеголял своей маленькой, но такой сладкой властью.
О женщинах-заключённых я знаю в основном понаслышке – почти никогда не встречал их. Однажды мне пришлось долго сидеть перед врачебным кабинетом в больничке «Матросской тишины». Я читал газету, а когда поднял глаза, увидел невдалеке тщедушную, похожую на подростка молодую женщину. Охрана была увлечена чем-то своим и не обращала на нас внимания. Мы разговорились. Понимая, что случайная встреча никогда не повторится, мы не спрашивали имён друг друга, только номер статьи – у неё была такая же, как у меня: 159, часть 4. Наёмная сотрудница колл-центра в маленькой петербургской компании, девушка была арестована вместе с руководителями и владельцами. Она уже знала свой приговор и после полутора лет, проведённых в СИЗО, собиралась ещё на два года в колонию. Сочувствия не приняла, сказала, что догадывалась о том, что фирма мошенничает с недвижимостью, но не хватило духу отказаться от скромного, но регулярного дохода: сама виновата, впредь буду лучше думать. В её ответе было много достоинства, честности по отношению к себе. Выглядела она болезненно, но глаза смотрели весело, с азартом. Ей не терпелось скорее покинуть опостылевшую тюрьму и хоть как-то разнообразить свою жизнь.
В СИЗО 99/1 был очень строгий режим, «глухая заморозка». На допросы и встречи с адвокатами арестантов выводили с соблюдением всех инструкций. Сидельцы никогда не встречались друг с другом в коридорах, часто не знали, кто находится через стенку в соседней камере. Но, случалось, оказывались рядом в одном автозаке по дороге в суд или на следственные мероприятия. Автозаки и были основным источником информации, которая затем расходилась по камерам. Что-то проникало от адвокатов, изредка проговаривались следователи. Было известно, что из трёх десятков камер небольшой тюрьмы одна была женской. Сидела там удивительная троица. Сотрудницу банка держали в заложниках, пытаясь выманить из-за границы владельцев и топ-менеджеров. Вторая, подданная не то Колумбии, не то Венесуэлы, была задержана на границе с кокаином. Замыкала трио цыганка, проходившая по делу, кажется, «Нота-Банка»; проницательные следователи обвинили её в том, что она способствовала хищению путём ворожбы.
Ещё помнится одна зэчка, которую я никогда не видел, но часто слышал.
На улице Матросская Тишина по одному адресу находятся два учреждения: уже упомянутое СИЗО 99/1, известное как «кремлёвский централ», и СИЗО 77/1. Первое расположено прямо в административном корпусе и помимо строгой изоляции отличается относительным бытовым комфортом, малонаселённостью и компактностью. По слухам, оно было учреждено в восьмидесятых специально для высокопоставленных фигурантов «Хлопкового дела». Здание стоит несколько особняком, одной стороной выходит на внутренний двор. Через двор из другого, соседнего учреждения неумолчно доносятся приглушённые расстоянием, невнятные звуки какой-то совсем иной, бурной арестантской жизни.
СИЗО 77/1 расположен в комплексе старых зданий. Он гораздо больше «кремлёвки», несколько корпусов. Меня поместили в шестой корпус, один из так называемых спецблоков. Кроме него, есть «большой спец» и «малый спец», общий корпус, больница. В больнице лечат арестантов, в том числе женщин, из разных московских изоляторов. Вырубленное на трудно достижимой высоте в стене метровой толщины окошко моей камеры выходило на общий корпус и больницу. С внешней стороны его загораживал большой экран, вроде тех, что вдоль магистралей заглушают автомобильный шум. Вероятно, преследовалась цель исключить общение между заключёнными. Смысла в этом, как и в большинстве подобных мероприятий в системе исполнения наказаний, не было никакого: и без того убогое освещение становилось ещё хуже, а слышимость оставалась отличной. Перекличка между камерами и корпусами оживлялась к вечеру. Вернувшиеся из судов сообщали новости о себе и о тех, кого встречали на сборках и в автозаках, передавали приветы из других СИЗО, сообщали, кого и на сколько осудили, кто ушёл на этап, кого перевели в другую камеру, кто попал на кичу, то есть в карцер. Иногда выясняли отношения друг с другом, всегда ругали начальников, скандировали воровские речовки. Ладили «дороги», посредством которых передавались не только письма-малявы, но и какие-то некрупные вещи, сигареты. Многоголосие тембров, наречий и акцентов. В пёстром хоре выделялся высокий женский голос. С характерной отчаянной весёлостью и демонстративной бесшабашностью его обладательница материла ментов и каких-то «ссучившихся» своих бывших товарищей и товарок. Кричала она много и совершенно неинформативно, казалось, исключительно из радости общения. И часто, когда в ночи стихал общий гомон, она пела. Невоспитанный, но очень сильный и красивый голос срывался в хрипотцу. Кажется, ни одну из её песен я до того не слышал и сейчас не могу припомнить ни единого слова. Концерт обычно давался в ночи, хотелось спать, пение было явным излишеством, но странным образом не вызывало раздражения. Я быстро привык и перестал обращать на него внимание, подобно тому как вынужденно смирился с довольно ярким дежурным освещением, всю ночь полыхавшим в камере. Беруши и маска на глазах лишь немного притупляли восприятие. Прошло много месяцев, а эти ночные концерты остались неотделимой подробностью моих воспоминаний о пребывании в шестом корпусе Матросски.
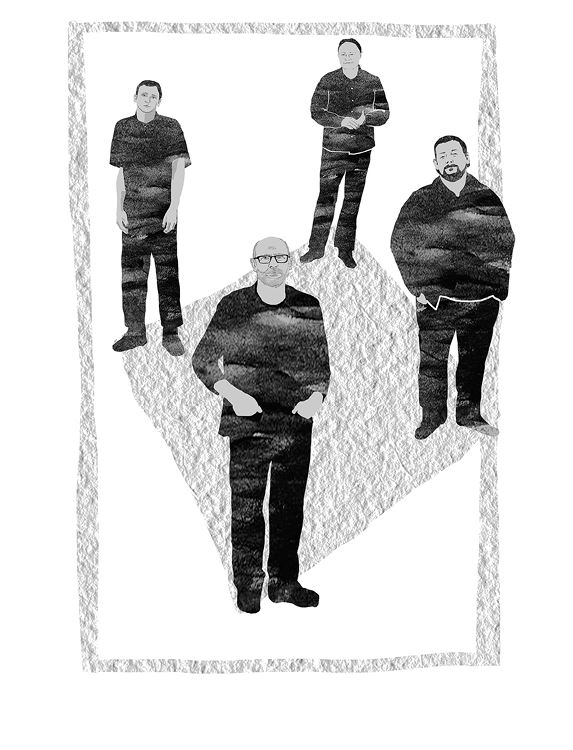
Поздним вечером 29 июня невеста и её рябой напарник передали меня персоналу «кремлёвского централа». Два охранника молча провели в тесную комнатку с узенькой металлической кроватью. Кровать намертво встроена в стену, из противоположной стены торчит подобие табурета, прямо у изголовья кровати – унитаз. Ощущение недавнего ремонта, но пыльно. Ни матраса, ни подушки. Сумку с вещами было велено оставить у двери снаружи. Испугался, что это и есть моя камера, – очень тоскливая перспектива. Холодно. Лежать на кроватной сетке невозможно. Время замедлилось. Долго стучал в двери (тормоза), попросил матрас и одеяло, бельё. «Потерпите, скоро вас переведут». Отлегло, хоть и непонятно, куда переведут. Понравилось, что на «вы». Наконец вывели в просторный «предбанник» (холл): в одном углу стол и два стула, в другом – громоздкий интроскоп. Двое, майор и прапорщик, начали неспешный, очень подробный обыск. Майор уставший, расслабленный. Прапорщик, наоборот, подтянут и очень старателен. Параллельно обыску он провёл краткий вводный инструктаж, предупредил, что здесь жёсткие порядки и не стоит даже помышлять о том, чтобы нарушить какие-то правила и многочисленные запреты или не подчиниться распорядку и приказам начальников. Говорил подчёркнуто вежливо, но значительно, с напором – видимо, это должно было придать происходящему зловещий оттенок. В целом эффект удавался, но я никак не мог избавиться от ощущения последних десяти дней, будто все события наблюдаю со стороны. Это было как бы кино с моим участием, и поэтому я не мог по-настоящему испугаться или впасть в уныние. Спасали любопытство и ирония, на донышке сознания теплился своеобразный кураж.
Перетрясли и внесли в опись все мои трусы и носки, прощупали швы на джинсах, исследовали подошвы туфель, уже сбросивших на Петровке шнурки и супинаторы. Туфли, книжку, две пары очков, футляры к ним и шариковую ручку несколько раз помещали внутрь рентгеновского сканера; в результате отобрали ручку, одни очки и оба футляра – нельзя ничего, содержащего металл, ни винтика, ни пружинки. Просмотрели каждую страничку блокнота, попытались вырвать листок со словариком – «он вам не понадобится, здесь феня не употребляется». Объяснил, что мой интерес сугубо филологического свойства, с трудом отскандалил – не то чтобы это имело какое-то для меня значение, просто сопротивлялся покушению на мои записи. Вложенный в блокнот листочек с именами и номерами телефонов всё же изъяли. Дошло до сигарет. «Ломаем или выкидываем?» – спросил прапор. Оказалось, что оставить себе сигареты я могу только после того, как распотрошат каждую и не обнаружат внутри чего-нибудь запрещённого. Я не курю уже много лет, но понимаю, что использовать ломаные сигареты по прямому назначению после процедуры будет затруднительно. Я не уверен, что требование законно и бескорыстно, но спорить уже не было сил. «Ломаем», – говорю я. Две или три пачки сигарет крошатся тщательно и неторопливо, складываются в пакет. «А теперь выбрасываем», – говорю я по окончании процедуры. В глазах прапора смесь удивления и ненависти. Майор ухмыляется, кажется, впервые за всё время проявив интерес к происходящему.
Я получил матрас, подушку, постельное бельё, комплект посуды: миску, кружку, ложку. Поднялись на третий этаж. На каждом повороте и лестничном марше – предупреждающий стук ключом-вездеходом. У каждой двери сигнальная кнопка, электронный замок открывается после прикосновения ключа, вшитого то ли в рукав, то ли в лацкан форменной куртки охранника. В камере 304 пусто, вдоль стены четыре шконки – две двухъярусных секции, стол, лавка, чайник на полке. Окно заклеено матовой плёнкой. Всё довольно обшарпанное. Зато на стене телевизор. И, что приятно, туалет огорожен невысокой стенкой. Весь день я не ел и не пил, по моей просьбе охранник наполнил чайник водой, еду пришлось ждать до утра. Сон был тяжёлым, но крепким. Несмотря на голод, съесть принесённую на завтрак капусту я не смог, отделил и пожевал корку от полбуханки липкого хлеба. Вскоре вызвали с вещами. Далеко идти не пришлось – камера 310 расположена напротив.
Камера такая же, но недавно отремонтированная, идеально чистая, хорошо обжита, можно сказать, уютная. Три человека смотрят на меня со сдержанным интересом. Здороваюсь, снимаю и оставляю у двери туфли, достаю из своего пакета шлёпанцы, мою руки. Плотного сложения человек с умными глазами показывает газету, которую только что читал. Газету я вижу впервые за десять дней. В ней моя фотография за решёткой – в клетке Пресненского суда.
– Это вы?
Я удивлён:
– Да, я.
– Мы в курсе, следим внимательно. Давайте знакомиться.
Игорь Сергеевич Пушкарёв, мэр Владивостока. Второй, немного младше, очень полный, с едва уловимым грузинским акцентом представляется более фамильярно: Давидыч. Увидев, что я слегка растерян, поясняет: «Смотра». Я не понимаю. Давидыч, кажется, разочарован, а я немного смущён. Теперь я знаю, что для смущения у меня были основания. Эрик Давыдович Китуашвили – популярный автомобильный блогер, в то время продвигавший свой имидж борца с коррупцией в ГИБДД, был настоящей звездой, а его Smotra.ru насчитывала больше миллиона подписчиков. Слава Эрику льстила, но живой темперамент и хорошее чувство юмора уберегали от сознания собственной значительности и чрезмерного самоуважения. Третий, совсем молодой человек, скромно назвался Костей Козловским. Знаменитый хакер, уважительно объявляет Давидыч. В камере много книг. Вдоль стен штабелями сложены блоки бумажных полотенец и туалетной бумаги, пакеты с молоком и очень много бутылок с водой. Холодильник полон приличной еды, в шкафу над столом чай, мёд, орехи, печенье.
Старожилы показывают мне, где расположена видеокамера, предупреждают о наблюдении и прослушке. Рассказывают об учреждении, в котором я оказался рядом с ними. СИЗО 99/1 – один из двух изоляторов прямого федерального подчинения. Второй 99/2 – не менее знаменитое Лефортово, следственная тюрьма ФСБ. Нашу в просторечии называют «девяткой», но чаще – «кремлёвский централ», иногда, из-за жёсткой изоляции, – «Бастилия», а также, в шутку, «фабрика звёзд». Шутка обязана своим появлением большому количеству известных людей, в разное время прошедших этот изолятор, – от фигурантов «Хлопкового дела» и членов ГКЧП до Сергея Магнитского и Михаила Ходорковского.
Рассказ прерывается на время – нас выводят на прогулку. Прогулочные дворики расположены на крыше. Площадка размером примерно пять на пять метров огорожена высокой бетонной стеной, по верху которой натянута колючая проволока; в центре – вмонтированная в бетонный пол небольшая скамейка, в противоположных по диагонали углах – видеокамеры на стенах. Над разделяющим дворики центральным коридором – мостик, по которому прохаживается, наблюдая за нами, надзиратель. Чтобы исключить разговоры с арестантами, гуляющими в соседних двориках, из репродуктора с оглушающей до боли в перепонках громкостью непрерывно звучит музыка – отборная попса. Внутри дворика, перекрикивая музыку, можно, в принципе, продолжить беседу. Но нам некогда: предварительно окропив водой из принесённых с собой бутылок пыльный пол, все энергично заняты физкультурой – приседания, отжимания, упражнения для пресса. Правда, Эрик отвлекается, чтобы подымить в углу душистой сигариллой, – он единственный курящий, а в камере по общему уговору курить нельзя.
По возвращении я рассказываю немного о себе, о проекте «Платформа». О том, как я вижу перспективы расследования, мне не приходится говорить – новые друзья с доброжелательной иронией в точности озвучивают то, что я думаю: происходит нелепая ошибка, дело кажется достаточно простым и непременно разрешится на первых же допросах; через месяц, когда истечёт срок избранной меры пресечения, добросовестный и непредвзятый суд освободит вас из-под стражи. Мы знаем, что вы правы, верим каждому слову и сочувствуем, говорят мне, но лучше сразу избавиться от иллюзий. Сейчас мы расскажем, как будет на самом деле. И почти безошибочно предсказывают всё, что произойдёт со мной в последующие одиннадцать месяцев.
Эрик включает телевизор: показывают какой-то убогий боевик. В «Московском комсомольце», который в этом СИЗО бесплатно раздают по камерам, напечатана программа передач. Обнаруживаю, кажется, на «Культуре» «Вики, Кристина, Барселона» Вуди Аллена. Мои соседи не знают этого фильма, и я, употребив всё своё красноречие, убеждаю их переключить каналы. Так в первый же вечер я посеял разврат, а уже через день ведомые мной насельники камеры 310 достигли последней глубины падения: мы слушали концерт Анны Нетребко. Эрик вяло сопротивлялся, Игорь Сергеевич и Костя с интересом и удовольствием вбирали новые впечатления. Впрочем, несколько разрешённых к просмотру каналов крайне редко предлагали что-то путное, и Эрик мог без помех смотреть боевики и комедии. Ограничен он был только режимом: в двадцать два тридцать телевидение отключали. Изредка удавалось уговорить дежурного помощника начальника смены изолятора – ДПНСИ – продлить время просмотра.
Знакомство с Игорем, Костей и Эриком оставило во мне глубокий след. Я очень многим обязан этим парням, с которыми прошёл свой первый тюремный месяц, всех троих считаю своими друзьями. Потом было ещё много интересных встреч и достойных людей. Но эти – особенные. Я должен немного рассказать о каждом.
Игорь Сергеевич Пушкарёв, сорока с небольшим лет, мэр Владивостока (не назначенный, а избранный городом), к июню 2017 года находился в заключении уже год. Его обвинили в злоупотреблении служебным положением и коммерческом подкупе. Если очистить обвинение от стереотипных страшилок, которыми следователи и прокуроры любят украшать свои нестройные умозаключения, то вменяемое Пушкарёву злоупотребление сведётся к тому, что принадлежащие семье мэра предприятия авансировали городу материалы на миллионы рублей и, терпеливо подождав оплаты, простили задолженность. Коммерческий подкуп мэра якобы совершил его родной брат через посредничество его же жены. Игорь не признаёт за собой вины и бескомпромиссно борется. Он идеально дисциплинирован, чистоплотен и бесконечно деятелен. Его тюремный досуг, помимо изучения материалов дела и подготовки линии защиты, состоит из ежедневной обширной переписки, чтения полудюжины выписанных им газет и множества разнообразных книг; дважды в день у него серьёзные спортивные занятия; он совершенствует свои знания в английском и корейском языках. При этом он доброжелателен, улыбчив и тактичен в общении. С ним очень удобно, комфортно. Он состоятельный человек, свои материальные возможности сочетает с хватким хозяйственным навыком практичного деревенского парня и ярким организационным дарованием. Идеальный порядок и рационально устроенный быт в камере – в первую очередь следствие этих его качеств. О нём за глаза всегда уважительно судачат на сборках и в автозаках и, уж коль довелось оказаться в тюрьме, хорошо иметь такого соседа.
Дома его ждут жена и трое сыновей, родители. Один из двух младших братьев проходит по этому же делу, он находился тогда под домашним арестом.
Пушкарёв получал письма не только от родных и бывших коллег, но и от жителей Владивостока, которые с сочувствием следили за судьбой своего мэра. Мелким аккуратным почерком отвечал сразу, никогда не откладывая на следующий день. Однажды Игорь показал мне листочек, на котором от руки был записан наивный и не очень умелый акростих. Первые буквы строк складывались в призыв «Свободу Пушкарёву». Автор, совершенно незнакомый человек, принёс это сочинение на семейное предприятие Пушкарёвых и попросил переслать Игорю Сергеевичу. Позже, уже выйдя из СИЗО, на сайте Пушкарёва и других сетевых ресурсах Владивостока и Приморья, которые и по прошествии трёх лет продолжали кампанию его поддержки, я нашёл ещё много трогательных свидетельств уважительного отношения к нему со стороны не связанных ни бизнесом, ни властью, ни личным знакомством жителей.
Владивосток Игорь любит. Среди книг, находившихся в камере, на видном месте лежал огромный альбом, посвящённый городу. Пушкарёв радовался, когда кто-то из нас проявлял к нему интерес, и с готовностью увлечённо комментировал фотографии и статьи, рассказывал об истории каждого дома, сквера, памятника и о предыстории каждого проекта, его цели и перспективах.
Родился и вырос Игорь в забайкальской деревне, в доме с печным отоплением и водой из колодца. После школы закончил университет во Владивостоке. Создал успешный бизнес, построил удачную политическую и чиновничью карьеру. Говорит, что был убеждённым приверженцем Путина, точнее, того образа, который внушил себе. Состоял в «Единой России». Попав во власть, гордился своими ответственными постами и с энтузиазмом стремился оправдывать доверие. Разумеется, у него были недоброжелатели, соперники в борьбе за влияние в городе и регионе, откровенные враги. Противостояние им он воспринимал не как делёж пирога, а как борьбу принципов, настаивал на своём представлении о благе города и ведущих к этому благу путях. Сфабрикованное дело, незаконное преследование и собственно тюрьма естественно корректируют картину мира. Сейчас Игорь говорит, что больше всего претензий у него к себе: как он мог быть таким прекраснодушным болваном? Его история напоминает о репрессированных в тридцатые годы прошлого века большевиках, о том, как у недалёких, но искренних «комсомольцев», «бойцов продразвёрстки», попавших в молох пожирающего своих детей режима, с запоздалым изумлением раскрывались глаза, и перед этим прочищенным взглядом вставала картина оскорбительно примитивного устройства реальности. В этой реальности дорвавшееся до кормящей власти агрессивно-бездарное ничтожество не потерпит и не простит другим роскоши иметь принципы, жить по нравственному закону. Ничтожество прозорливо воспринимает это как угрозу своему существованию.
В мае 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Пушкарёва к пятнадцати годам колонии и огромному штрафу. Вопреки закону и обычной практике суд проходил не по месту совершения вменяемого преступления. Вероятно, у бенефициаров этого процесса было опасение, что во Владивостоке, где у бывшего мэра сохранилась широкая поддержка, будет сложнее провести столь непопулярное и неправосудное решение. Я был на оглашении показательно жестокого приговора. Оно длилось целый день с утра до позднего вечера. Судья, много часов читавший своё постановление, никому не разрешил слушать сидя. Приходило в голову, что до последнего используются любые возможности издеваться над обвиняемыми, их близкими и доброжелателями, которых был полон зал. Я внимательно слушал судебную скороговорку, и, уверяю, не прозвучало ни одного убедительного доказательства вины. Подана апелляция. Игорь Сергеевич Пушкарёв продолжает бороться.
Эрик Китуашвили, известный широкой публике как Давидыч, не выносит скуки. Вот он в дурашливой истерике бьётся в «тормоза», на тюремном жаргоне – двери камеры: «Старшой! Старшенький! Отпусти меня! Я всё осознал, больше не буду. Никогда. Ну пожалуйста, старшой! Я домой хочу!» Все хохочут, это и вправду очень смешно. В следующий раз визгливым притворно-скандальным тоном, подражая уголовникам-отморозкам, он кричит совершенно противоположное: «Не дождётесь! Я не встану на путь исправления! Воровал и воровать буду! Отпустите, гады! Ну хоть по продолу (тюремный коридор) погулять выпусти, слышь, старшой!» «Старшой» – обычное обращение к любому коридорному охраннику или конвоиру. Будь он хоть капитан, хоть прапорщик, хоть младший сержант или младший лейтенант – ни одного «младшого» я не встречал, все «старши́е». Смех в тюрьме помогает сохранить здоровье, а порой и выжить, компенсирует нехватку витаминов, солнечного света и свежего воздуха. Шутками бодрят себя и поддерживают соседей. Шутку ценят. Однако нужно чутко сознавать границу дозволенного. Не всякому подобные выходки сходят с рук, можно дошутиться до кичи (штрафного изолятора) или получить замечание. Замечание – не такое уж безобидное взыскание, как кажется на первый взгляд; оно может сказаться впоследствии, например, при принятии решения об УДО. Чтобы безопасно пройти по этой грани, нужно иметь определённую репутацию: Эрику можно – своеобразная негласная конвенция, принятая и соседями, и охранниками, и начальством.
Его выступления отличают не только ёрничество и фатовство, но и лихость и артистизм. Он художник в выбранном жанре, не чуждый тщеславия, любит внимание и признание.
Его тюрьма начиналась с большой общей камеры, перенаселённой лютыми уголовниками, наделёнными совсем иным, специфическим чувством юмора. Известна просочившаяся в прессу история о том, как однажды утром недоброжелательные соседи показали ему на экране мобильного телефона (строго запрещено, но некоторым можно) фотографию с приставленным к его горлу ножом. Кто-то говорил, что это следствие неверного поведения Эрика с соседями по хате (тюремной камере), кто-то считал это инсинуацией следователей. После огласки его перевели в «кремлёвский централ».
Давидыч живёт страстями. И самая пламенная из его страстей – автомобили: красивые, мощные, быстрые, лихие. Его считают одним из зачинателей стритрейсерских гонок на Воробьёвых горах. Два года на ТВ‐24 он вёл посвящённые автомобилям программы «32 кадра» и «Наука на колёсах». Пожалуй, ещё большей популярностью он обязан созданному и руководимому им сайту Smotra.ru. А также своему безусловному артистизму, самонадеянности на грани фанфаронства, яркому чувству юмора и амбиции лидера, законодателя автомобильной моды. Эту свою амбицию он реализует довольно успешно – за ним огромное молодое, большей частью анархически настроенное сообщество автолюбителей и посетителей блога.
С какого-то времени Давидыч решил бороться со злоупотреблениями властей, снял несколько роликов о коррупции в ГИБДД. Видео мгновенно стало хитом – больше миллиона просмотров. Давидыча обвинили в мошенничестве, связанном с автострахованием. Сам он горячо убеждал, что с ним сводят счёты высокопоставленные чиновники московского ГИБДД, которых он разоблачал в своём блоге. Делал он это со свойственными ему экстравагантностью и напором. Мне не понаслышке известно, что уголовные дела у нас часто фабрикуются по заданию сверху, а не по факту нарушения закона, и в то же время заявления о реальных преступлениях не принимаются к расследованию. Поэтому мне версия о заказном характере дела Давидыча кажется вполне правдоподобной. Ещё одно обстоятельство свидетельствует о том, что вся история по сути является жестокой местью: вместе с Эриком была арестована и провела два года в тюрьме его гражданская жена Анна Каганская, отказавшаяся давать показания против Давидыча. Дополнительные краски образу Давидыча придаёт ещё одна подробность: его мама и покойный отец – оба в прошлом сотрудники МВД.
Эрик – противоречивый персонаж. Задатки шоумена и имидж лихого гонщика сочетаются с необъяснимой скромностью в отношении некоторых фактов биографии. Например, лишь через месяц нашего знакомства и бесконечных разговоров он вскользь упомянул, что вместе с несколькими активными подписчиками «Смотры» помогал полиции в поимке банды ГТА, убивавшей водителей на трассе «Дон».
Начиная с 2010 года Давидыч инициировал и организовал несколько автопробегов по России и зарубежью: Урал, Забайкалье, Одесса, Казахстан (через Чечню). Не знаю, какое значение они имели для автомобильного движения, но на меня произвела сильное впечатление благотворительная сторона этих пробегов. При составлении программы были установлены контакты с несколькими детскими домами в малых городах на маршруте пробегов. Собрали информацию об их первоочередных потребностях. Детям в этих домах привезли игрушки, одежду и обувь. А чтобы акция была весёлой, участники пробега везли с собой кисти и краски, дети раскрашивали автомобили, на которых потом их катали по улицам городков и посёлков. Детям с диагнозом ДЦП был устроен специальный праздник, гвоздём которого были полёты на вертолётах. Кто-то посчитал, что Эриком руководили соображения пиара. Но если у детей был праздник, о котором они будут помнить долгие годы, а администрация детских домов получила реальную материальную помощь, то какая разница, чем продиктована инициатива, – сердобольностью или саморекламой? Тем более что местные «смотровчане» – так называют себя члены сообщества и подписчики сайта – не оставляют эти детдома своим вниманием и после окончания пробега, продолжают оказывать им поддержку.
19 октября 2019 года Дорогомиловский суд огласил приговор. Время, проведённое Давидычем в СИЗО, почти полностью исчерпывает назначенное наказание. При этом ЕСПЧ признал срок его содержания в СИЗО необоснованно чрезмерным. Система настроена таким образом, что успешно игнорирует даже собственные решения, если эти решения направлены на улучшение участи человека. Помещают же человека в тюрьму мгновенно, без излишних проволочек и согласований, лишь по воле следователя. И пусть потом выяснится отсутствие причин и оснований, но противоестественная и порочная традиция круговой поруки следователей и судей уже не позволит отыграть назад. Тем, кто в результате оказывается по внутреннюю сторону тюремной решётки, остаётся только шутить… Шутить и доступными средствами бороться. Прошло два года с тех пор, как в «кремлёвском централе» нас развели по разным камерам. Сейчас Давидыч на свободе. Пару раз мы встречались, изредка созваниваемся. Не знаю, как он распорядится своим новым положением и приобретённым опытом.
Костя Козловский – хакер. Слово «хакер» теперь имеет устойчиво негативный смысл. Несанкционированное вмешательство в чужое информационное пространство, создание вредоносных вирусов, кража данных или денег – это в самом деле недопустимо и возмутительно. Знатоки рассказывают, что на заре компьютерной эры взломщиков обозначали близким по смыслу словом «крэкер» (от английского crack). В то время как хакер (от hack) – это суперквалифицированный IT-специалист, способный быстро и эффективно устранять сетевые проблемы и исправлять несовершенства программного обеспечения. Им движет чистый исследовательский импульс, а первоначально разрушительные находки в конце концов эффективно используются системами компьютерной безопасности. Сейчас понятия смешались. Грань, за которой заканчивается бескорыстное творчество и начинается преступная деятельность, определяется намерениями, целями и методами творящего или действующего. Она лишь на первый взгляд кажется очевидной. Реальность устроена сложнее, и благие намерения заводят порой в причудливые лабиринты.
Костя, каким я его знаю, не вмещается в простые схемы и определения. Вундеркинд, он ещё школьником побеждал на компьютерных олимпиадах и выиграл конкурс персональных веб-страниц. Классический гик, он сутками не отрывался от монитора. Когда же случалось выходить из-за компьютерного стола, любопытный и общительный юноша неизменно оказывался в центре какого-нибудь экстравагантного приключения или отправлялся в экзотическое путешествие. Оказавшись в тюрьме, где недоступны никакие девайсы, он, подобно человеку-амфибии, выброшенному из уютного моря на неприветливую сушу, стал учиться дышать. Шариковой ручкой «печатал» мелкие аккуратные буквы в своих письмах и заявлениях, начал читать бумажные книги и, главное, общаться с очень разными людьми. Обладая структурным мышлением, склонностью к порядку и привычкой систематизировать информацию, учился быстро и хорошо, проявлял всеядность и открытость. Быстро усваивал алгоритмы отношений с сокамерниками и начальниками. А также осваивал корейский язык, основы иудаизма и каббалы (в тюремной библиотеке нашёлся Зоар и ещё несколько книг по теме), поэмы и прозу Пушкина, классическую музыку (телеканал «Культура»); увлечённо качал мышцы самодельными снарядами (связанные в батарею пластиковые бутылки с водой или загруженные солью джинсы со связанными штанинами). Ценил и старался поддерживать доброжелательную атмосферу в камере. Если по простодушию допускал бестактность в отношении кого-то из соседей, то переживал и стыдился. Он любил готовить чай, придумывал необычные рецепты и неожиданные сочетания. Будто аптекарь, он оценивал объёмы и пропорции чайного листа, апельсиновых корок, мёда, яблок… Лицо светилось вдохновением, какое мне случалось видеть у дирижёров в кульминации особенно удачного исполнения любимой симфонии. Смелое сочетание ингредиентов обусловлено отчасти ограниченными тюрьмой возможностями, отчасти острым желанием «маэстро» открыть новое в привычном, удивительное в обыденном. И, конечно же, доставить удовольствие публике. А если повезёт, со скромным достоинством принять заслуженное восхищение.
История, рассказанная им самим, кратко выглядит так. Азартный юный завсегдатай интернет-форумов был вовлечён старшим товарищем в работу на благо родины. «Товарищ», как нетрудно догадаться, оказался внедрённым в хакерское сообщество сотрудником ФСБ. Он не был уж вовсе пошлым провокатором, подобным создателям и разоблачителям «Нового величия». Возможно, десять-пятнадцать лет назад органы ещё стеснялись такой топорной работы. Офицер Дмитрий Докучаев, он же Илья, несколько лет под ником Forb вёл рубрику «Взлом» в журнале «Хакер», на форуме бравировал своей неуловимостью и мастерством. После вербовки именно он выдавал Косте задания, которые, постепенно усложняясь, стали требовать вовлечения новых людей. В дополнение к таланту программиста Костя обнаружил прекрасные организаторские способности. Увлекательная игра в конспирацию требовала организовывать взаимодействие так, чтобы участники процесса не были знакомы друг с другом и, выполняя отдельные локальные задачи, не видели бы очертаний цельного конечного продукта и не имели бы к нему доступа. Работу требовалось оплачивать. Средства похищались со счетов банков и организаций, которые указывал «старший товарищ». Выбор атакованных объектов кажется странным. Можно было бы фантазировать о том, что это часть большой секретной программы, в рамках которой жертвы чем-то провинились и несут справедливое наказание или же осведомлены о том, что их обирают, но не возражают, для того и созданы. Подробными объяснениями «товарищ» не утруждался, значительность и загадочность – известная особенность стиля, воображение само должно дорисовать картину и предложить объяснения. Кроме оплаты необходимого софта, оборудования и труда привлечённых сотрудников, большая часть похищенных денег передавалась куратору для благих, разумеется, целей. Название группировке Lurk дал одноименный вирус, к разработке которого группировка была причастна. С помощью этого трояна и других остроумных программ были не только похищены больше миллиарда рублей в российских банках, но и парализованы компьютерные сети десятков компаний по всему миру. После успешных атак «товарищу» передавался удалённый доступ, по его указанию производились модификация, блокировка, удаление, скачивание информации, выявлялись персональные данные сотрудников… Кульминацией этой работы, по версии рассказчика, стали взломы серверов Национального комитета Демпартии США и раскрытие переписки Хилари Клинтон. Весной 2016 года в результате масштабной спецоперации Козловский и полсотни соучастников были арестованы в разных городах России и СНГ. Сдали группу старшие товарищи из ФСБ. А вскоре были арестованы по обвинению в измене родине майор Дмитрий Докучаев (Илья), руководитель Центра информационной безопасности ФСБ полковник Сергей Михайлов и эксперт лаборатории Касперского Руслан Стоянов. Последний имел отношение к мнимому разоблачению группировки и лично участвовал в обысках. Одной из возможных причин внезапной немилости называется отказ от участия в разработке некой глобальной и весьма разрушительной программы. По другой версии, это часть сложной оперативной игры в истории о кибершпионской группе Cozy Bear, создание которой приписывают полковнику Михайлову. Следователи, не зная, как распорядиться показаниями, которые даёт Козловский, дважды отправляли его на психиатрическую экспертизу, разумеется, оба раза признавшую его полностью вменяемым и здоровым. В этой истории много загадок, скрытых мотивов и неизвестных участников. Мои симпатии однозначно принадлежат Косте. Хотя понятно, что симпатии или, напротив, неприязнь не могут служить аргументами там, где требуются безусловные доказательства. Можно ли оправдать преступление злокозненностью спецслужб или наивным прекраснодушием? Этот вопрос мучает моего друга, доброжелательного, искренне озабоченного всеобщим благом.
В СИЗО Костя женился. Пять лет до начала этой ужасной и запутанной истории они встречались с девушкой Аней. И только после ареста заключили официальный брак. Выйдя под подписку о невыезде, я специально приехал на ближайшее заседание в Мосгорсуд, чтобы познакомиться с женой Кости. Это хрупкий и одновременно сильный, преданный и стойкий человек. Вне сомнения, её решения и поступки продиктованы большой любовью.
Весной 2019 года Костю этапировали в Екатеринбург. Сейчас идёт судебное следствие.
Человеку в тюрьме важно понять, что жизнь, какой бы причудливой, уродливой своей стороной она ни повернулась, невозможно отложить на время, а вынужденную паузу заполнить одними воспоминаниями или планами на будущее. Нет, жизнь непрерывна, она продолжается каждую секунду. Просто, в силу обстоятельств, сейчас она вот такая. Дни, месяцы, а для кого-то и годы, проведённые в заключении, не удастся вернуть и повторно прожить так, как хотелось бы. Поэтому нужно жить сейчас. Это, в общем, банальное рассуждение, наверное, справедливо и по отношению к близким оказавшегося в тюрьме человека.
В камере 310 было много разных книг. С моим появлением к общественно-политическим и техническим изданиям, стихам Высоцкого, нескольким книжкам по иудейской мистике, словарям и учебникам английского и корейского языков, кипам журналов об автомобилях и вертолётах добавилась художественная и философская литература. Часть книг прислали Таня и друзья, часть по моей заявке принесли из библиотеки СИЗО. Библиотека была на удивление хороша. Её фонд, как я понимаю, годами складывался из книг, оставленных сидельцами. Книги не были систематизированы, учёт был поставлен дурно. Я предложил начальству свои услуги в инвентаризации и составлении удобного каталога, но инициатива не нашла отклика. Было запрещено получать больше четырёх книг одновременно. Когда возникали напряжённые отношения между нами и начальством, то в наказание охрана пыталась ограничить количество книг в камере, независимо от того, получены они из библиотеки или принадлежат заключённым. По опыту было известно, что личные книги, хранившиеся на складе, иногда приходилось ждать неделями после написания заявки об их получении. Поэтому за возможность хранить книги при себе мы воевали отчаянно. По моей инициативе мы начали практиковать коллективные чтения вслух: проза, поэмы и маленькие трагедии Пушкина, стихи Бродского, Веничка Ерофеев… Почти ежедневно действовал своеобразный лекторий. Каждый из нас обладал какой-то особой компетенцией: искусство, политика и бизнес, автомобили и вертолёты, цифровые технологии. Находя в соседях благодарных слушателей, мы с удовольствием делились своими познаниями и рассуждениями.
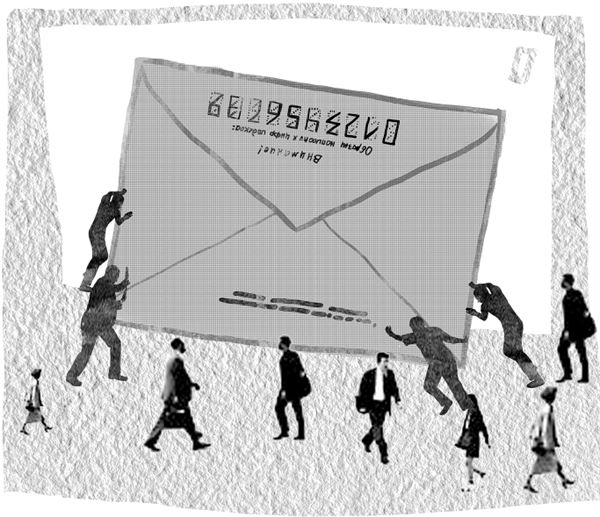
Скоро мне стали приходить письма. Даже сильный и уверенный в себе человек, оказавшись в неволе, нуждается в поддержке. Тому, кто насильно оторван от своих дел, лишён привычного общения, кто оскорблён несправедливым подозрением, важно знать, что он не брошен, не вычеркнут из жизни. Мои родные, друзья и коллеги щедро баловали меня вниманием. Это были замечательные, незабываемые письма. Из них я узнавал новости, с ними получал статьи и рецензии, много стихов, фотографии и рисунки. Писали и незнакомые прежде люди, возмущённые учинённым в отношении меня беспределом. Платная услуга «ФСИН-письмо» временно не работала. Поэтому начинался мой тюремный эпистолярий с написанных от руки писем, вложенных в конверты с наклеенной маркой. Мне казалось, что в интернет-эпоху такой архаичный способ личной переписки навсегда остался в прошлом. Впрочем, некоторые из моих корреспондентов нашли определённое обаяние в этом почти забытом способе коммуникации и даже после восстановления электронного канала продолжали вкладывать рукописные листочки и открытки в конверты. Письма, в том числе из Москвы, иногда шли неделями. Судя по штампам на конвертах, иногда повинна в этом была дурная работа Почты России, а иногда письма задерживались сотрудниками СИЗО. Конверты всегда были открыты – письма проверял цензор. Запрещалось сообщать подробности своего дела, использовать шифры и коды, матерные выражения, жаргон. Не вполне ясные правила действовали относительно иностранных, не кириллицей писанных слов и писем на иностранных языках; по идее, для этих случаев должны к цензуре привлекаться переводчики. В одном из писем к Тане, пытаясь подбодрить её шутками и стилистическими изысками, я позволил себе написать пару слов на иврите. Чтобы цензор не принял их за криптограммы, я сделал соответствующие сноски и по всем правилам оформления затекстовых примечаний в конце письма указал транслитерацию, перевод и значение в контексте целого выражения. Не помогло. Возможно, моё искреннее желание облегчить цензору жизнь показалось ему издёвкой, но письмо он не пропустил. Я просил разъяснений и, поскольку в письме было много важной для нас практической информации (о работе, кредитах, ремонте квартиры, машины и тому подобного), требовал, чтобы мне возвратили неотправленное письмо. Выяснилось, что оно было уничтожено. Не знаю, вследствие ли этого инцидента или независимо от него, но впоследствии я без проблем получал письма с вкраплениями английского текста. Однажды вымарали номера телефонов, которые я попросил сообщить мне для того, чтобы внести их в ходатайства о разрешении телефонных разговоров с дочерьми. Любопытно, что почти в каждом письме я достаточно откровенно ругал следователей, судей, прокуроров и действующие в стране порядки – и это, похоже, не смущало цензуру. Лишь однажды, уже в другом СИЗО, куда меня перевели через несколько месяцев, сразу несколько моих корреспондентов получили уведомления о том, что ответы на их письма задержаны. Причина лежала на поверхности: ругань в них касалась непосредственно порядков и сотрудников следственного изолятора. Эти письма не уничтожили, по моему требованию они были мне возвращены. Начальник, которому я адресовал жалобу, поручил разбираться со мной цензору; возникла переписка. За словами незамысловатых и неубедительных разъяснений мне померещилась заинтересованная живая нотка; впервые совершенно безличная и бесформенная враждебная субстанция, скрывавшаяся за понятием «цензура», начала приобретать в воображении какие-то человеческие очертания. Вскоре я увидел живого цензора: им оказалась невзрачная женщина средних лет в форме ФСИН, она сунула мне через окошко в двери камеры мои непропущенные письма, с любопытством посмотрела мне в глаза и поспешно ретировалась, заставив меня в очередной раз задуматься о причинах, побуждающих людей к выбору профессии и места работы.
Описанный случай произошёл уже не с традиционными, а с электронными письмами. Точнее, с частично электронными. Дело в том, что заключённым российских тюрем нельзя пользоваться никакими современными приборами, кроме электрочайника (да и за тот ещё нужно побороться). Замечательный по замыслу сервис «ФСИН-письмо» работает следующим образом: заключённый не может сам инициировать переписку – только ответить на полученное письмо, если отправитель оплатил ответ. Ответ можно написать на бланке, который заключённый получает вместе с письмом. Заполненный от руки бланк после цензурной проверки сканируется, и ответ уходит оплатившему эту процедуру адресату. То есть для кого-то оно, это письмо, и электронное, а долго сидящий зэк много пишет от руки. И не только письма – заметки по своему делу и конспекты выступлений в судах, жалобы, ходатайства, заявления. Восстанавливая забытый, оставленный в школе навык, я вспоминал строку Беллы Ахмадулиной: «…И остался от этих времен // горб – напряжённость среднего пальца».
В тюрьме множество нелепых и необъяснимых запретов. Если электрочайник Таня смогла мне передать с четвёртой попытки, то, скажем, коврик для занятий йогой у неё так и не приняли, даже после того как Иван Павлович Прокопенко, знаменитый начальник «кремлёвского централа», лично дал разрешение. Машинку для стрижки волос или книпсер для ногтей можно держать только на складе и получить по заявке на очень короткое время. Разумеется, когда удобно охране, а не тогда, когда это необходимо заключённому. Получить в передаче изюм можно, а сушёную клюкву нельзя. Оказалось, есть перечень разрешённых вещей и продуктов, в который несчастная клюква не попала, а перечня запрещённых нет, поэтому всё, на что не хватило фантазии составителей перечня, арестанту недоступно. Мне не забыть многодневного ступора, в который впал персонал тюрьмы перед вопросом, можно ли мне пользоваться расписной посудой, очень красивой, выполненной из качественного пластика, убедительно имитирующего фарфор. Таня и наша подруга, художник Маша Кривцова, специально подбирали эти чашки и плошки. Они знали, что нестандартные, со вкусом сделанные вещи скрасят мою жизнь в окружении скудного мира одинаковых, безликих предметов. Бессмысленные ограничения с энтузиазмом доводятся до намеренного абсурда. Именно намеренного – в большинстве случаев издевательское отсутствие смысла имеет единственную цель: любым способом унизить человека, занять всё его время и силы борьбой с казённым идиотизмом. В ответ на абсурд тюремное население развивает беспредельную изобретательность, которая отчасти оправдывает маниакальный страх начальства перед творческими способностями зэков. Любой подручный мусор (пружинки, лезвия, верёвочки и тому подобное) способен превратиться в компьютер или ракету среднего радиуса действия. Скажем, нельзя иметь в камере шнурки, ремни, не говоря уже о верёвках. Но также нельзя выстиранное белье разложить для просушки на кровати. Из пластиковых мешков для мусора недавний губернатор, олигарх, компьютерный гений, крупный чиновник… ловко скручивает прочную верёвку и растягивает её на решётке. Этого, впрочем, делать тоже нельзя, поэтому во время проверки всё нужно снять и спрятать, а затем развесить вновь. Мне рассказывали, как в камеру общего блока, перенаселённую людом попроще, но, подозреваю, гораздо более изощрённым и закалённым, разрешили занести переданный с воли старенький телевизор. Но без антенны. Антенна была сооружена из алюминиевых тарелок и ложек. Зацепить сигнал она могла, только будучи выставленной далеко за окно. Поэтому из газет и пластиковых бутылок собрали многометровую мачту, к одному концу которой крепилось сооружение из посуды, а другим концом конструкция заземлялась через решётку, закрывающую окно камеры. Опытным путём было установлено, что оптимальный приём той или иной программы соответствовал определённой ячейке, переключение производилось перемещением всего сооружения вдоль решётки.

Встречи с адвокатами проходили под камерами наблюдения. Мы скрупулёзно соблюдали все правила и ограничения. Мне ничего нельзя было передать, даже записку. Со слов адвокатов я узнавал о том, как прекрасно держится и яростно сражается за меня моя Таня, и о том, что за меня вступилась возмущённая общественность. Юлия Лахова и Ксения Карпинская безупречно представляли мою неуступчивую позицию и поддерживали намерение бороться за репутацию честного человека и грамотного профессионала. Они не пытались склонить меня к соглашательству и сотрудничеству, как ожидало следствие, привыкшее иметь дело с адвокатами-решалами. Напротив, придерживаясь моей стратегии максимальной открытости и публичности, они общались с правозащитниками, не отказывались от интервью, комментировали и разоблачали несостоятельное, смехотворное обвинение. Следствию нечего было противопоставить им, кроме ритуальных пустозвучных фраз «есть основания полагать», «вину подтверждает совокупность доказательств и показаний свидетелей» и тому подобное. Разумеется, ни тогда, ни позднее никаких доказательств предъявлено не было, а немногочис
ленные показания были явными лжесвидетельствами или попросту подделкой. Аргументы, имевшиеся в арсенале моих преследователей, сводились к тупому давлению и запугиванию. Упрятав меня за решётку, они объявили Таню свидетелем, что позволило почти полгода отказывать нам в свиданиях и телефонных разговорах. Горе-пинкертоны раздували щёки, намекая на имеющиеся в их распоряжении факты, которые до поры не могут быть оглашены в интересах расследования. Но их ложная многозначительность, встречаясь с высокой квалификацией и профессиональным азартом адвокатов, неизбежно оборачивалась несусветной глупостью. В отместку адвокатам, особенно Ксении Карпинской, пришлось испытать на себе мощный пресс. Было понятно, что им не простят и малейшей ошибки, что будет использован любой повод, чтобы инициировать отвод.
Между тем следствие, казалось, совершенно мной не интересуется. Три недели после суда не проводились никакие следственные действия. Мои и адвокатов ходатайства о продолжении допросов и наши жалобы на затягивание расследования оставались без ответа. Наконец 12 июля меня вывели в следственный кабинет. После долгого ожидания в резко распахнутую дверь буквально ворвались двое молодых мужчин. Один, невзрачный и замызганный, которому я с ходу присвоил кличку Прыщ, казался смутно знакомым. Не сразу вспомнилось, что он торчал в кабинетах московского управления СК в день моего задержания. Полагаю, что это и был фээсбэшный старлей Авдеев, который в своей справке-доносе со знанием дела утверждал, что, оставшись на свободе, я продолжу заниматься преступной деятельностью, запугивать свидетелей и подкупать ментов, используя для этого связи в правительстве и иностранных посольствах. Впрочем, тогда я ещё не знал, насколько серьёзную угрозу я, по мнению Прыща, представляю для общества. Его столь же бредовая, сколь и подлая справка попала мне на глаза в материалах дела почти год спустя. Другой, мчавшийся впереди рыхлый розовощёкий блондин, взял в карьер с места: «Советую добровольно рассказать, как обстряпали свою делюгу». Слово «делюга» я услышал впервые и спросил, что это значит. Розовощёкий, не без своеобразного изящества подражая стилю словарной статьи, дал определение, соединившее в себе сразу два значения – уголовное дело и переуступка выгоды (на тюремном жаргоне обычно – передача продуктов, купленных в тюремном ларьке, другому лицу). Следом ворвались адвокаты – именно ворвались. Дело в том, что в тот день Ксения и Юлия долго ждали свидания со мной. Иногда для встреч с адвокатами и следователями не хватало свободных кабинетов, тогда ожидание могло длиться часами, но в тот день посетителей было немного. Охрана врала, будто меня ещё не привели с прогулки, в то время как почти час я провёл в пустом следственном кабинете. Адвокаты уже знали о передаче дела в Главное управление Следственного комитета России. Когда мимо них проследовали мои визитёры, пропущенные сотрудниками СИЗО без очереди, они почувствовали опасность и потребовали, чтобы их немедленно допустили к подзащитному. В отсутствие адвоката я вправе не давать показаний, но следователь всегда надеется, что обвиняемый по слабости или неосторожности совершит ошибку. Беспокойство было оправданным. Розовощёкий оказался членом вновь назначенной следственной группы и явно рассчитывал огорошить меня своим напором. По моему требованию он представился: Павел Андреевич Васильев. И продолжил своё заготовленное выступление. Анонимный прыщ молча наблюдал его соло. «Мы всё знаем, но вам лучше самому рассказать», – в голосе смесь угрозы и сожаления обо мне заблудшем. Я не смог сдержать смех – так хрестоматийно наивно и топорно это прозвучало. Не ожидавший такой реакции Розовощёкий на время утратил решимость: «Напрасно радуетесь, ваши подельники рассказали, кого там Серебренников в Петербурге катал», – сказал он вяло, без прежнего энтузиазма. Тем не менее «катал» прозвучало значительно и загадочно. Зачарованный новыми филологическими впечатлениями, я не сразу понял, что это не жаргон, а всего лишь глагол «катать» в единственном числе третьего лица мужского рода, и пытался придать слову какой-нибудь непрямой, усложнённый смысл. За этим упражнением и застали меня запыхавшиеся от быстрой ходьбы мои защитники. Выяснилось, что по легенде следствия Кирилл, а в более поздней версии – Юра Итин, «катал» на кораблике по Неве Софью Апфельбаум, во время проекта «Платформа» работавшую в Министерстве культуры. Это было дурно. Во-первых, потому что на Соню, бывшую в моих глазах образцом честности и законопослушности, падала тень подозрений. Во-вторых, начитавшись за три недели кодексов и наслушавшись рассказов бывалых обвиняемых, я заподозрил, что эта попытка привлечь Соню имеет цель дополнить обвинение двести десятой статьёй – создание преступного сообщества. По сравнению с вменённой нам «преступной группой» это грозило большими сроками.
Ксения Карпинская потребовала от Розовощёкого документы. Тот показал удостоверение и вручил два постановления: одно – о передаче дела из московского управления СК в федеральное, другое – о назначении следственной группы из шести человек под началом полковника Лаврова. Старший лейтенант (за время следствия доросший до капитана) Павел Андреевич Васильев был одним из шести. Прыщ отказался предъявить документы и, ухмыляясь, назвался Александром Ивановичем Ивановым. Человек с таким именем в постановлении не значился. Мы отказались продолжать следственные действия в присутствии посторонних. После короткого совещания с Розовощёким Прыщ исчез, и больше я его никогда не видел. Наконец начавшийся допрос прошёл быстро и скучно. Те же бессмысленные, формальные вопросы, на которые в своё время уже получил ответы Хитрый раб Псевдол. Я снова заявил, что не понимаю существа обвинения и требую назвать конкретные эпизоды моих якобы преступных деяний. Объяснил, что, если следователь сумеет точнее сформулировать, что именно его интересует, я с готовностью расскажу и прокомментирую всё, что мне известно о проекте «Платформа». Розовощёкий, бывший вдвое моложе меня, иронично щурился и качал головой, изображая умудрённого воспитателя, который насквозь видит лгущего школьника и скорбит о его незавидном будущем. Он сказал, что признание может облегчить мне жизнь, но он не особо нуждается в нём, потому что знает всё (произнесено со значением, но устало, небрежно) из показаний Итина и Масляевой. В голове не укладывалось, что Юра мог оговорить меня. В лжесвидетельство Нины Леонидовны верилось легко.
Бурное знакомство с новой следственной группой этим не закончилось. Розовощёкий потребовал подписать обязательство о неразглашении подробностей расследования. К этому времени я уже понимал, что методы следствия неотличимы от повадок вокзальных напёрсточников, и попросил, чтобы были перечислены конкретные сведения, не подлежащие разглашению. От адвокатов мне было известно, что детали театрального дела и моего ареста, реальные и вымышленные, бурно обсуждались в прессе и социальных сетях. Любой из этих уже опубликованных материалов можно было интерпретировать как нарушение тайны следствия. Розовощёкий впал в крайнее раздражение и потребовал, чтобы оперативники СИЗО привели понятых для составления протокола об отказе дать расписку. Два мужика из хозяйственного отряда, носившего обидное название «козлобанда», с бесхитростными, доброжелательными лицами смотрели сочувственно и уважительно. Поставив подписи, они громко пожелали мне удачи. На их форменных куртках были нашивки с фамилиями. Но по закону понятые должны предъявить паспорта. Паспорта заключённых хранятся в спецчасти тюрьмы и не могут быть предъявлены. Я потребовал, чтобы в протокол была внесена запись о неправомочности действий следователя и сотрудников СИЗО. Юлия Лахова по ходу фарса не переставая увещевала Розовощёкого согласиться с тем, что её подзащитный – честнейший человек и следствию, если оно не хочет выглядеть совсем глупо, нужно отпустить меня из-под стражи и удовлетворить ходатайство о прекращении уголовного дела. А Ксения Карпинская в доказательство нарушения моих прав мучила вконец заскучавшего следователя ссылками на статьи законов и постановлений. Растерянный и обозлённый Розовощёкий объявил нам, что мы упустили свою возможность договориться с ним (что бы ни значило это «договориться») и что такие адвокаты, как Лахова и Карпинская, только вредят своим клиентам, подводя последних под реальные сроки. В общем, как-то с самого начала с новой следственной группой у нас не заладилось…
После ухода адвокатов мне пришлось ещё два часа бесцельно томиться в следственном кабинете. Объяснений не давали, это действовало на нервы, изматывало. Наконец, после неспешного досмотра моих очков, футляра для очков, карандашей, кепки, одежды и обуви, тщательно пролистав каждую страничку моего блокнота и книжицу Уголовно-процессуального кодекса, двое охранников повели меня в камеру. Возле каждой двери, ведущей из коридоров на лестницу и наоборот, – остановка лицом к стене, пока охранник набирает коды или прикладывает свою карточку к дисплею; где-то в ходу и обычные металлические ключи. Уже на третьем этаже перед решёткой локалки, делящей продол на изолированные зоны, в переговорном устройстве «старшого» пробулькала команда подождать. Вероятно, кого-то вели навстречу. Сидельцы соседних камер не должны видеть друг друга. Меня завели и ненадолго заперли в тесной камере без окон – таких в «кремлёвском централе» было по паре на каждом этаже; вероятно, из-за привинченной к стене лавочки их называли трамвайчиками. Скоро выяснилось, что мне навстречу из такого же трамвайчика в камеру вели моих соседей Игоря и Костю.
Когда через несколько минут, ещё раз обыскав перед дверью, меня впустили в камеру, глазам открылась картина натурального погрома: постельное белье и содержимое всех полок, тумбочек, сумок с личными вещами, а также холодильника вперемешку с книгами в жутком беспорядке было свалено на полу. Реконструировав последовательность событий, мы установили, что практически сразу после окончания моего допроса в камере был устроен обыск. Двоих вывели и два часа держали в трамвайчике, а Эрик как дежурный по камере согласно инструкции был оставлен наблюдать. Просидевший к этому времени уже больше года, в том числе в уголовных камерах общего блока, он утверждал, что такого лютого шмона ему ещё не приходилось видеть. Старший смены, капитан, руководивший процедурой, был новым сотрудником и не одобрял чересчур, на его взгляд, мягкого и вежливого обращения с арестантами «фабрики звёзд». Он задался целью продемонстрировать, каким должен быть настоящий порядок, и нам, заключённым, и своим новым коллегам-вертухаям. Всё, что он посчитал нарушающим правила внутреннего распорядка, было выброшено из камеры, в том числе несколько книг, в основном на английском языке, и какие-то личные записи, показавшиеся капитану подозрительными. Давидыч протестовал и был в нарушение инструкции насильно выведен из камеры. Зашедшийся в раже тюремный держиморда, привыкший к тому, что зэки общих тюрем по месту его прежней службы безропотно сносили подобный беспредел, совершил ошибку. Второй раз он ошибся, отказавшись от составления протокола об изъятии вещей. За капитаном закрепилось прозвище Псина. За свои ошибки самонадеянный Псина поплатился. Наведя в камере порядок, мы уселись писать жалобу. Нужна была нервная разрядка. К радости соседей, у меня случился приступ свойственной мне графомании: в подчёркнуто высокопарном стиле, изобилующем причастными оборотами и сложноподчинёнными предложениями, я, со слов Давидыча, вдохновенно описал зверства охраны, притворно ужасаясь, перечислил допущенные нарушения законов, инструкций и нравственных норм, бросающих тень на мундир российского вертухая. В праведном воодушевлении мы негодовали по поводу брошенных на пол книг, особенно напирая на то, что в их числе были Библия и брошюра с портретом президента Путина на обложке. Мы безудержно хохотали. Несмотря на то что время отбоя давно миновало, охрана спустила нам с рук это нарушение режима. Казалось, что участвовавших в погроме помощников Псины смущало и откровенное злоупотребление хамством при обыске, и наша неадекватная реакция на событие.
Несмотря на подчёркнуто дурашливый тон, в нашей жалобе содержалось несколько очень серьёзных обвинений – в частности, Эрик заявил, что помимо личных записей были изъяты материалы его уголовного дела. Данные видеорегистраторов подтверждали факт изъятия, а незаконное отсутствие протокола не позволяло точно определить состав изъятого. Копию жалобы мы грозились направить в прокуратуру. На утренней проверке петиция на имя начальника СИЗО была вручена дежурному помощнику начальника СИЗО. Через день изрядно растерявший свою свирепость Псина просунул в окошко-кормяк большую часть потрёпанных книжек. Потом ещё несколько дней он убеждал Давидыча принять изъятые тетради и подписать акт об отсутствии претензий. Давидыч не спеша пересчитывал и перечитывал свои странички, капризничал, требовал недостающие, а возможно, и никогда не существовавшие. Потом нас захватили новые события и новые проблемы.

Через пять дней после знакомства с представителем новой следственной группы Басманный районный суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения троим обвиняемым в мошенничестве. Бывший под домашним арестом Итин сидел рядом со своим адвокатом в зале. Я и доставленная из женского СИЗО № 6 Масляева – в зарешеченной клетке. Зал был до отказа заполнен друзьями и знакомыми, это окрыляло. Встретившись глазами с Таней, я не мог отвести от неё взгляда до начала заседания.
Судья Наталья Николаевна Дударь известна многим. За время своей карьеры она вынесла более четырёхсот приговоров, среди которых ни одного оправдательного. В её трофейном списке – Платон Лебедев, фигуранты «Болотного дела», Ильдар Дадин. Она отметилась в деле Василия Алексаняна и братьев Навальных. За соблюдением законности в этом заседании зорко наблюдал полковник Генеральной прокуратуры И. В. Малофеев. Ходатайство следствия представлял мой розовощёкий знакомец Павел Васильев. В первых же словах он объявил, что наша вина подтверждается показаниями свидетелей и обвиняемой Масляевой. Адвокат Масляевой Зайцев в своей речи простодушно осудил коварство следователей. Оказалось, Нина Леонидовна заключила досудебное соглашение с обязательством «дать показания против тех лиц, которые указаны в данном соглашении». Своё обязательство она выполнила, а следователь нарушил слово и собирался оставить её за решёткой. Сидевшая рядом со мной Масляева заёрзала на скамье и, покрывшись испариной, выдохнула: «Я этого не выдержу». Не выдержал и я, поинтересовался шёпотом: «А если не врать и не оговаривать никого, может, было бы легче?» В ответ – шипение: «Я ни про кого ничего плохого не говорила». Больше мы не общались.
Знакомые с судебной практикой люди знают, что вопрос о продлении меры пресечения, как правило, рассматривается достаточно быстро. Но мы дали настоящий бой, и заседание затянулось. Карпинская и Лахова представили десятки характеристик, поручительств, писем поддержки, предложили внести внушительный залог. Убедительно доказывали, что у меня нет ни мотивов, ни технической возможности скрыться или препятствовать расследованию – наоборот, в моих интересах способствовать установлению истины. Главным же аргументом оставалось то, что предъявленное мне обвинение и моё имя не фигурируют в возбуждённом уголовном деле, а нелепое утверждение о том, что спектакль «Сон в летнюю ночь» не был поставлен, многократно прокомментировали и осмеяли десятки известных и уважаемых в обществе людей. Абсурдность решения Пресненского суда, месяц назад назначившего мне содержание под стражей, была очевидной. И даже такому беспринципному и зависимому судье, как Наталья Дударь, было нелегко игнорировать столь откровенное беззаконие. Думаю, она сознавала, что плохо подготовленное её решение может отменить апелляционный суд, и боялась неодобрения начальства и кураторов из ФСБ. Её затруднение усугублялось тем, что несколько журналистов прямо из зала суда вели онлайн-трансляцию – в таких условиях сложнее врать. Но мы скоро увидели, что она, судья Дударь, с этим справилась. Кстати, в начале этого и всех последующих заседаний при обсуждении вопроса о видеосъёмке сторона защиты всегда выступала за, но суд всякий раз соглашался с позицией следствия и прокуратуры и отказывал журналистам.
По прошествии шести часов тяжёлого заседания Наталья Николаевна объявила перерыв и удалилась в совещательную комнату писать постановление. Я не сомневаюсь, что тайна совещательной комнаты была нарушена судьёй Дударь с такой же лёгкостью, с какой Басманным судом презирается другой основополагающий принцип правосудия – презумпция невиновности. Но рабочий день у начальства уже закончился, и ей не с кем было советоваться. Или согласованное решение требовало много времени для придания ему видимости законности. Так или иначе, к участникам заседания судья в тот вечер не вышла. Секретарь В. В. Тимакова через час с лишним сообщила, что постановление будет оглашено на следующий день в 11 часов. В протоколе заседания, датированном 17 июля, а подписанном 21 июля, она ничтоже сумняшеся соврала, будто о переносе оглашения на следующий день судья Дударь сообщила сразу вместе с объявлением перерыва, а полторы сотни свидетелей этого вранья будто бы не томились более часа в бессмысленном ожидании.
На следующий день меня доставили в суд ранним утром, а заседание началось не в 11 часов, как было объявлено, а в 13, как было удобно судье и следователю, несомненно находившимся в сговоре. Долгое ожидание перед началом заседания я делил в камере с двумя симпатичными молодыми людьми, доставленными из другого московского СИЗО. Один обвинялся по делу банка «Огни Москвы», где он до банкротства занимал высокую должность, а второй – по какому-то дикому делу, в котором фигурировала не взорвавшаяся во дворе дома на Покровке граната. В разговоре всплыло, что всем нам троим в разное время довелось побывать в Сан-Франциско. И мы, с увлечением предаваясь воспоминаниям, пожелали друг другу вновь оказаться в этом прекрасном городе в недалёком будущем.
У меня есть личная причина считать Сан-Франциско лучшим городом на земле – именно там много лет назад я понял, что люблю Таню.
Но вот, в сопровождении троих конвойных и собаки – руки скованы за спиной наручниками, – под щёлканье фотокамер и приветствия стоявших вдоль стен судебного коридора друзей, меня провели в зал. Вместо оглашения постановления Дударь объявила о продолжении заседания в связи с необходимостью приобщить дополнительные документы. Розовощёкий следователь Паша с улыбкой, парадоксально сочетавшей выражение наглости и смущения (помню, я подумал тогда, что это очень выразительная краска для артиста на роли лакеев), мялся возле дальнего окна. А группу в этом судебном заседании представлял лично её руководитель, старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России полковник юстиции Александр Андреевич Лавров. К Псевдолу, Прыщу и Розовощёкому в моём бестиарии добавился новый персонаж – Полковник Цахес.
Дополнительными документами оказались два новых постановления полковника. Одно – о возбуждении уголовного дела в отношении Итина, Масляевой и меня. Состав преступления, как и в предыдущей версии обвинения, был сформулирован очень неопределённо. Но масштаб наших мнимых злодеяний впечатлял: в новой версии они охватывали период с 2011 по 2014 год, то есть теперь включали и время моей работы на «Платформе»; сумма якобы похищенных средств чудесным образом выросла с двух до шестидесяти восьми миллионов рублей. Второе постановление было о соединении нового и старого уголовных дел с присвоением ему прежнего номера. Таким образом, с этого дня как бы формально узаконивалось моё присутствие в деле. Особую наглость этой мошеннической комбинации придавала игра с датами: к материалам заседания от 17 июля судья, игнорируя возражения защиты, приобщила постановления, которые Полковник Цахес смастерил утром 18-го. Правда, оставалось непонятным, на каком основании меня держали в тюрьме весь предыдущий месяц. Ксения Карпинская заявила отвод судьи, логично предположив, что между ней и следствием во время перерыва в заседании имело место непроцессуальное общение. Недолго посовещавшись сама с собой, Дударь решила отклонить отвод. Неожиданно дал слабину прокурор. Он заявил, что поддерживает ходатайство о продлении меры пресечения Итину и Масляевой, но просит отказать в отношении обвиняемого Малобродского. В зале послышался выдох облегчения, тоненько завибрировала надежда. Когда судья ушла на вторую попытку вынести постановление, стоявший возле клетки пристав начал инструктировать меня о порядке освобождения: придётся подождать, сказал он, немного посидите внизу в камере, пока подготовят документы, и только потом я смогу вас отпустить. Несомненно, в этот раз постановление было заготовлено заранее. Выждав для приличия минут пятнадцать, якобы «её честь» зачитала своё решение: вопреки фактам, здравому смыслу, положениям закона и мнению прокурора она продлила меру пресечения всем троим обвиняемым сроком на три месяца. Все присутствующие, включая приставов и собаку, были шокированы.
В тот день я не дожидался автозака в суде до позднего вечера, как это обычно бывало. Машина словно стояла наготове и быстро доставила меня в СИЗО. Но отдохнуть мне довелось не скоро. Всю нашу камеру почему-то переселяли на шестой этаж. В отличие от меня Игорь, Костя и Эрик находились в тюрьме больше года, пережили зиму и успели обрасти вещами и книгами. В ларьке были закуплены в больших количествах питьевая вода и хозяйственные принадлежности. Весь этот скарб мы упаковали и перетащили в несколько заходов. На новом месте нас ждала не знавшая ремонта очень грязная камера. До утра мы её тщательно отмывали и обустраивали. Но уже на следующий день вернулись к обычным занятиям: йога, письма, чтение, физкультура в прогулочном дворике, прерываемые допросами следователей и консультациями адвокатов. Мы продолжали увлечённо общаться и, поддерживая друг друга, много шутили, смеялись. Через десять дней из-за тормозов (двери) прозвучало: Малобродский, Китуашвили, с вещами на выход. Давидыч объяснил решение начальства кратко и доходчиво: в тюрьме положено страдать, а нам слишком весело. Через полчаса мы покинули камеру. Костю я с тех пор не видел, с Игорем спустя много месяцев мы однажды встретились в автозаке и ещё раз – в Тверском суде во время оглашения ему чудовищного приговора. Нас с Эриком тоже развели по разным камерам.

Моими новыми соседями оказались Михаил Хрузин и Дмитрий Попелыш. Оба из Петербурга. Оба в разное время окончили кораблестроительный институт. Но познакомиться им довелось в трёхместной камере «кремлёвского централа».

Дима, тридцатилетний хакер, похитивший вместе с братом деньги с клиентских счетов нескольких крупных банков, находился в СИЗО уже третий год. О существе своего дела говорил неохотно; не буду вдаваться в подробности и я. Он вообще был немногословен, порой косноязычен и временами сбивал нас с толку неожиданно сформулированными вопросами, например: «Вот я не знаю, когда поздно, а когда уже нельзя?» – произносил он, томно глядя вдаль. Ко времени нашего знакомства его дело ни шатко ни валко, со скоростью одного-двух заседаний в месяц буксовало в стадии судебного расследования. О судах Дима рассказывал охотнее, чем о самом деле, делился забавными подробностями. Например, о том, как в конце двухчасового разоблачительного допроса женщина-эксперт, не сумевшая объяснить, как она пришла к выводам о совершённом мошенничестве, разрыдавшись, объявила: «Следователь сказал, каким должно быть заключение, я и написала». После знакомства с судьями Васюченко и Дударь, следователями Федутиновым и Лавровым мне легко верилось в правдивость такого рассказа. Насколько я смог понять, братья даже не отрицали части обвинений, но следствие было не в состоянии внятно описать состав преступления, тем более привести убедительные доказательства и заслуживающие доверия свидетельства. Братья-хакеры третий год наблюдали за потугами следствия и гособвинения, но не спешили им помогать. В 2012 году они уже были осуждены по первому в российской истории делу о фишинге. В мае 2015-го арестованы вновь. Трудно судить, насколько обоснованы были новые обвинения; по одной из версий, на ходивших под условным сроком братьев пытались повесить несколько нераскрытых киберпреступлений. Подобно сюжету об ущербе в деле «Седьмой студии», им вначале вменяли хищение одного миллиона рублей, за время следствия сумма возросла до нескольких сотен миллионов, а затем вновь поползла вниз, причём от части притязаний по своей инициативе отказался потерпевший банк. Из двухсот семидесяти изначально вменявшихся преступных эпизодов до обвинительного заключения дожили пятнадцать.
Близнецы Дима и Женя сидели в разных камерах одного и того же СИЗО, изредка встречаясь только на допросах или в судах. В день рождения Диме принесли особенную, «праздничную» передачу от мамы, заказавшей во ФСИНовском онлайн-ресторане какие-то разносолы, включая торт. Мы скромно праздновали. Я представлял, как в то же время где-то в соседней камере ровно с таким же набором гостинцев, как две капли воды похожий на Диму незнакомый мне парень поднимает кружку морса или минералки за здоровье своей матери. Я не решился расспрашивать скупого на слова Диму о семье, но моё воображение долго занимал образ немолодой одинокой петербурженки, которая тридцать лет покупала своим одарённым детям одинаковые костюмчики, пеналы и велосипеды, а сейчас заказала два одинаковых тортика в московское СИЗО.
Летом 2018 года мне попалась информация о том, что Савёловский суд приговорил близнецов к 8 годам лишения свободы. Почти через год апелляционная коллегия Мосгорсуда пришла к выводу о несоответствии обвинительного заключения нормам уголовного права из-за многочисленных нарушений формального и процессуального характера. Не знаю наверняка, но, кажется, разбирательство не завершено до сих пор.
Миша Хрузин, обаятельный человек с негромким голосом и застенчивой улыбкой, – один из самых симпатичных людей, с которыми мне довелось познакомиться в последнее время. Заключение он переживал тяжело. Что и понятно: ко времени нашего знакомства он провёл в тюрьме два года. Жена Миши одна воспитывала двух дочерей-школьниц. Всех троих Миша любил и мучился сознанием трудностей, выпавших на их долю. При этом он никогда не позволял себе демонстрировать уныние или отчаяние. Выручали его прекрасное чувство юмора и внятный взгляд на вещи, не замутнённый расхожими стереотипами. Явлениям, событиям и людям он давал неожиданно простые и безупречно точные определения. Миша – принципиально честный, непубличный человек. За себя, свою семью и своё понимание правды он готов стоять до последнего, хотя лишён пафоса борьбы с несправедливостью как таковой. Как и многие в тюрьме, он глубоко разочарован в возможности жить, работать и честно строить благополучие своей семьи в России. Как многие интеллигентные люди в тюрьме, он не позволял лениться своему сознанию: каждый день по несколько часов занимался немецким языком и, насколько это возможно при самостоятельном изучении и без аудирования, изрядно преуспел в этом занятии.
Предприниматель средней руки Хрузин проходил по делу губернатора Коми Вячеслава Гайзера. Следствие пыталось доказать, будто возглавляемая Хрузиным компания «Инари» использовалась в схемах легализации незаконно полученных доходов «путём направления денежных средств в строительство гостиницы». Вдумчивый и честный по отношению к самому себе, Миша искренне не мог понять, в чём состоит инкриминируемое ему преступление. Впрочем, лучше всего он сам говорит за себя: «Мне не везли чемоданы с деньгами, все происходило в пределах законодательства. Все деньги на счетах прошли налоговый учёт, абсолютно легальное дело». А вот его последнее слово перед оглашением приговора: «Все ругают Следственный комитет, а я хочу сказать слова благодарности. За три года семь месяцев в СИЗО я познакомился с огромным количеством прекрасных людей. Про губернаторов и мэров я не говорю. Мне попадались деятели искусств, кандидаты технических, физических, экономических наук, строители стадионов, архитектор космодрома, предприниматели из списка «Форбс», гениальные программисты, которых называют хакерами, блогеры, журналисты, правозащитники, генералы, дипломаты, разведчики и даже йог международного масштаба. Многие рвут на себе жилы, чтобы в такой компании оказаться, а я вот – практически на халяву. За это время я почти выучил немецкий язык, могу стоять на руках, могу собрать электроплитку и самогонный аппарат. А оборотная сторона медали: моя жена работает на трёх работах, на попечении двое несовершеннолетних детей, двое престарелых родителей-инвалидов. «Инари» забрали какие-то деятели. Я признан банкротом, имущество распродаётся, мой маленький бизнес разорён. Катастрофа. Прошу меня оправдать и дать возможность работать».
Срок, проведённый Мишей в СИЗО, с учётом коэффициента один к полутора соответствовал вынесенному приговору – пять лет и восемь месяцев колонии общего режима. Сейчас он дома. Надеюсь, он сумеет быстро справиться с травмой, которую тюрьма и несправедливость неизбежно оставляют в каждом человеке. Надеюсь, что планы, которые он по-товарищески доверил мне, полностью воплотятся в жизнь.

Через неделю после позорного решения судьи Дударь в семь часов вечера спецчасть СИЗО вручила мне уведомление о том, что утром следующего дня мне будет предъявлено новое обвинение. Вот обратный отсчёт. Как говорят в таких случаях, следите за руками: 4) 25 июля мне предъявляют постановление о привлечении в качестве обвиняемого, подписанное этим же числом, то есть 25 июля; 3) зная, что адвокат Карпинская занята в другом процессе, о дате вручения Постановления нас уведомили только накануне вечером, то есть 24-го; 2) при этом уведомление подписано Полковником Цахесом 21 июля; 1) и, наконец, на основании этого обвинения от 25 числа, с которым ни обвиняемый, ни защита не были ознакомлены, Басманный суд 18 июля продлил на три месяца срок моего содержания под стражей. Все полтора года предварительного расследования, вплоть до начала судебного процесса по существу дела, пестрят подобными подтасовками. Первое время я льстил себе заблуждением, что такое отношение ко мне и моим бывшим коллегам со стороны организованной преступной группы следователей, прокуроров и судей эксклюзивно, приписывал это громкому имени Кирилла Серебренникова, чем-то не угодившего заказчикам этого беспредела. Но скоро понял, что подтасовки и передёргивание – обычная рутинная практика органов. События московского лета 2019 года, происходящие, когда пишутся эти строки, свидетельствуют о полной и окончательной победе извращённого представления о роли силовых структур, включая прокуратуру и карманный суд. Эта роль сводится к демагогическому оправданию беззакония в отношении неугодных граждан.
Я знал об участии своего адвоката в другом судебном заседании и ходатайствовал о переносе даты ознакомления на следующий день. Проигнорировав просьбу, в назначенное время меня доставили в Следственный комитет России в Техническом переулке, дом 2. Опасаясь провокаций со стороны следователей, Ксения сумела договориться с судьёй о переносе заседания по делу своего другого подзащитного и уже поджидала меня вместе с Юлией Лаховой. В маленькой комнате в жуткой тесноте с трудом уместились три следователя, два адвоката и я, сопровождаемый двумя конвойными.
Скандал вспыхнул сразу: конвойные, следуя своей внутриведомственной инструкции, отказались снять с меня наручники, причём второй парой браслетов я был прикован к прапорщику. Незнакомый мне прежде рыхлый, замызганный молодой человек с потными ладошками и скучным стеклянным взглядом представился членом следственной группы майором Мосенковым. Из-за детской чёлочки над небольшим лбом он был одновременно похож на девочку-редиску из мультфильма про Чиполлино и на Мурзилку с обложки одноимённого журнала времён моего детства. Второе прозвище за ним и закрепилось. Мурзилка огласил намерения: вручить мне новое обвинение, допросить меня и записать для экспертизы образец моего голоса. Я заявил, что отказываюсь участвовать в любых следственных действиях, пока меня не освободят от наручников и не предоставят положенную по закону конфиденциальную консультацию с адвокатами. Двухчасовые препирательства ни к чему не привели: я стоял на своём, допрос и запись голоса не состоялись. Мурзилка пообещал, что через несколько дней допросит меня в СИЗО.
Через пару дней меня вызвали на допрос. Но вместо Мурзилки в кабинете сидели двое. Высокого роста недоросль, чей взгляд выдавал присущее второгоднику сочетание наглости, лени и страха перед необходимостью отвечать невыученный урок, оказался следователем, лейтенантом Терёхиным. Лейтенант силился выглядеть подтянутым и молодцеватым. В бестиарий он вписан под позывным «Юнга». Второй визитёр, длинноволосый в джинсовом костюме господин моего возраста, представился Валерием Синельниковым. Несколько лет назад Нина Масляева знакомила меня с ним, своим другом и деловым партнёром. Я помнил имя, но не узнал его.
Когда прибыли адвокаты, Юнга объявил, что будет проведена очная ставка. Карпинская напомнила, что процессуальным законом предусмотрен допрос обвиняемого после предъявления нового обвинения. Мурзилка и Розовощёкий, обещавшие допросить меня в СИЗО без наручников, видимо, решили по возможности избегать встреч со мной и отправили своего «меньшого брата». Смысл очной ставки заключается в устранении противоречий в показаниях разных лиц. Но коль скоро после предъявления последнего обвинения я не был допрошен, то мои показания отсутствовали, следовательно, и противоречий быть не могло. Я настаивал на проведении допроса, надеясь услышать, в чём конкретно меня обвиняют. Дело в том, что в многостраничном постановлении Полковника Цахеса не было приведено ни одного факта якобы совершённых мной противоправных действий. Весь тяжеловесный текст сводился к формуле: в неустановленное время в неустановленном месте обвиняемым и другими неустановленными лицами было совершено мошенничество, то есть присвоение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием. О том, чьим доверием я злоупотребил, кого ввёл в заблуждение, что именно и каким образом похищено, документ умалчивал. Участвовать в очной ставке я был готов сразу после допроса. Юнга допрашивать меня не захотел, потому что руководитель следственной группы не давал ему такого поручения. В результате в моём и адвокатов молчаливом присутствии Синельников один отвечал на вопросы Юнги. И, надо сказать, отвечал довольно честно. Так, он рассказал, что мы были только представлены друг другу, не были связаны общими делами и никогда не обсуждали никаких планов и условий сотрудничества. Через несколько месяцев Синельников под давлением следствия частично изменил показания, оболгав меня.
Весь следующий месяц я писал ходатайства Полковнику Цахесу, просил разъяснить существо обвинения и корректно допросить меня. Я также пытался выяснить, остаётся ли в силе обвинение в том, что спектакль «Сон в летнюю ночь» не был поставлен. Это было важно, поскольку прокурор Малофеев, резонно заявивший в суде, что продлевать мой арест на основании задним числом приобщённого нового обвинения незаконно, затем одумался и принёс официальное замечание на протокол заседания. В замечании Малофеев уже поддерживал решение Басманного суда, но, пытаясь выглядеть последовательным, он писал, что заключить в тюрьму меня нужно по основаниям первого обвинения. То обстоятельство, что противозаконность этого обвинения была фактически признана судом, он назвал «технической ошибкой». То есть за обшлагом рукава судейской мантии Натальи Дударь прятались сразу две карты, и обе краплёные. Разумеется, все до единого мои ходатайства остались без удовлетворения. Я добросовестно готовился к апелляции, надеясь если не разорвать, то убедительно разоблачить бесконечную вязь путаного вранья. Мосгорсуд, нарушая собственный регламент, долго не назначал дату заседания.
Тем временем команда Цахеса демонстрировала рвение и неутомимость в проведении особо важного и особо сложного расследования. С моим участием состоялось несколько абсолютно анекдотических мероприятий. Среди них – два допроса абсолютно одинакового содержания, протоколы которых уместились на одной странице:
– Вам понятно предъявленное обвинение?
– Нет, оно неконкретно и лживо.
– Вы признаёте вину в совершённом преступлении?
– Нет, не признаю.
Кроме того, меня знакомили с результатами двух экспертиз. Первая зачем-то проверяла загранпаспорт Серебренникова и была вынуждена согласиться с его подлинностью. Вторая описывала содержание компьютера свидетеля Жириковой. Я со свидетелем не был знаком и никогда её не видел. Но из педантизма отказался подписать протокол и потребовал ознакомления с перечисленными в постановлении эксперта файлами, ведь из простого перечисления невозможно было понять, о чём именно они свидетельствуют и что доказывают. Несчастный Мурзилка трижды в течение месяца приходил в СИЗО и пытался на своём служебном ноутбуке раскрыть прошедшие экспертизу диски. И не смог. Не знаю, в чём причина, – может, следователей не учат работать с элементарной оргтехникой, а может, файлы Жировой были повреждены намеренно. Это имело последствия – очередная ловушка, в которую сами себя загнали двоечники от юстиции: впоследствии они были вынуждены признать этот компьютер недопустимым доказательством. Однако на данных именно этого компьютера базировалась ангажированная следствием финансово-экономическая экспертиза, которая, в свою очередь, обосновывала сумму якобы причинённого ущерба. Но, следуя элементарной логике, трудно опровергаемой даже нашим судом, саму эту экспертизу надлежало признать недопустимой.
Меня вновь привезли в Следственный комитет. Снова пытались допросить, не сняв наручники, на этот раз – под объективом видеокамеры. Снова повторились препирательства. Следствию понадобился образец моего голоса, зачем – осталось загадкой: ни одной прослушки моих телефонных разговоров в деле не было. Из женской тюрьмы привезли Масляеву. Нина Леонидовна непрерывно жаловалась на плохое самочувствие. Чтобы не множить её мучения, я, несмотря на наручники, согласился на очную ставку.
Видеозапись этой комедии – одно из вещественных доказательств в будущем суде над нашими жуликоватыми следователями. Перед Масляевой лежал лист исписанной бумаги, и она не таясь зачитывала ответы на вопросы розовощёкого Васильева. Во избежание ненужных импровизаций вопросы были, по сути, утверждениями. Масляевой предлагалось только подтвердить их истинность. Она подтверждала. Все её показания состояли из лжи и противоречий: события, имена, даты не желали складываться в правдоподобную историю. Сюжет написанного следствием рассказа в исполнении Масляевой сводился к тому, что она признавала незаконное обналичивание и присвоение части денег из бюджета «Платформы». Но, бедняга, делала это по принуждению. Правда, ни одного конкретного случая оказанного на неё давления Нина Леонидовна не вспомнила. Не смогла она также объяснить, каким образом я или Серебренников, не будучи её руководителями, не имея права проведения финансовых операций и не обладая никакими рычагами принуждения, могли руководить преступлениями, в которых она устало сознавалась. Какие из этих преступлений она совершила на самом деле, а какие выдумала вместе со следователями – я не знаю. Адвокат Масляевой задал единственный вопрос: принуждал ли кто-нибудь его подзащитную давать именно такие, а не иные показания. Никто, – солгала Масляева.
Через пять дней явилось подтверждение этой лжи. Как и всё, что предпринимали следователи, эта история сочетала в себе глупость с подлостью, драму с анекдотом. Меня снова повезли в СК. В этот раз – не большим автозаком-КамАЗом, а специально оборудованным микроавтобусом. В салоне, напротив вмонтированного видеорегистратора, за решёткой была устроена скамья во всю ширину; по обоим бортам – два крохотных стакана без окошек в металлических дверях, с двумя рядами просверлённых для воздуха отверстий. Сначала меня везли одного, затем на остановке попросили перейти в «стакан». Объяснили, что возьмут в машину женщину, возраст, здоровье и комплекция которой не соответствуют габаритам крошечного металлического отсека. В самом деле, даже мне, малорослому, с трудом удалось примоститься на узенькой деревяшке-табуретке, торчавшей из борта. Колени упирались в стенку напротив. Было трудно дышать. Кряхтя и охая, вошла невидимая мне соседка. Когда с неё снимали наручники, она заговорила с охраной. По голосу я узнал Масляеву. Доехали быстро. Я обрадовался, что теперь смогу размять затёкшее тело. Но нас не спешили выводить. Масляева причитала и жаловалась. Я молчал, не желая вступать в разговор с ней. Нина Леонидовна не догадывалась, что не одна в машине. Из доносившихся разговоров конвойных и охраны было понятно, что мы стояли перед воротами СК. И не мы одни. По неясной причине машины во двор не впускали. В голосах слышались раздражение и нервозность.
В душный салон вошёл кто-то грузный, заговорил с Масляевой. Это был следователь Павел Андреевич Васильев. Он сказал, что из-за каких-то спецмероприятий запланированные следственные действия сегодня не состоятся. Ответная реплика заставила меня обомлеть. Масляева, называя собеседника по имени-отчеству, прямо спросила, когда её отпустят под домашний арест. «Я сделала всё, что вы просили. Вы обещали. Когда?» Розовощёкий объяснял, что нужно немного потерпеть и ещё кое-что для него сделать. Масляева жаловалась, говорила, что больше не выдержит тюрьмы, просила не обманывать её. Я оказался нечаянным свидетелем внепроцессуального общения следователя с обвиняемой. Иначе говоря, преступного сговора с целью оклеветать других участников уголовного дела. Досудебное соглашение, подписанное Масляевой и следствием, не давало права вести непротоколируемые переговоры. И уж конечно не предполагало лжесвидетельства.
Забегая вперёд, скажу, что Масляева находилась в тюрьме ещё больше месяца. Не знаю, какие услуги она оказывала следствию до выхода под домашний арест и, очевидно, продолжала оказывать после.
Посоветовавшись с адвокатами, я направил в СК требование об отводе следователя Васильева. В МВД я потребовал расследовать обстоятельства происшествия, которому стал свидетелем, ведь, кроме прочего, этот эпизод грубо нарушал правила конвоирования. Прокуратуру я просил дать правовую оценку действиям следователя. Всем трём ведомствам, призванным блюсти закон и пресекать нарушения, я предложил изъять запись видеорегистратора, подтверждающую обоснованность моих жалоб. Из всех трёх я получил формальные отписки, утверждавшие, что всё происходило в рамках закона. И никто ни словом не обмолвился о том, была ли затребована и изучена видеозапись происшествия.
Когда к машине пыталась подойти беременная Юлия Лахова, ей не позволили это сделать и не разрешили передать мне бутылку с водой. Между тем в нагретом палящим солнцем металлическом салоне маленького автозака мы провели несколько мучительных часов. Нас так и не выпустили и без объяснений отвезли обратно в СИЗО. Позже стала известна нелепая причина происходившего: в тот день в дом № 2 в Техническом переулке приехал председатель комитета Александр Иванович Бастрыкин. Прежде мне казалось, что появление большого начальника вызывает в учреждении всплеск активности. В СК в тот день, напротив, наблюдался растерянный паралич. Судорожно принимались излишние меры безопасности. Рассказывали, что несколькими днями прежде генерал Бастрыкин спускался в лифте, куда неожиданно без сопровождения сотрудников вошли несколько посторонних. Случайные попутчики оказались адвокатами, покидавшими Комитет после допросов своих подзащитных. Генеральский гнев был страшен. Прикомандированную к Главному управлению следственную группу, проводившую расследование, расформировали и разогнали по местам прежней службы. Оказалось, что нарушение силовиками законов и собственных правил иногда наказывается, но только когда затрагивает интересы, страхи или причуды начальства.

Вспомнилось: «Моя милиция меня бережёт». В этом наивном заблуждении прошли детство и ранняя юность. С плакатов строго смотрел человек в погонах, обещая «надёжный заслон расхитителям социалистической собственности». Транспарант над каморкой участкового утверждал, что «милиция – слуга народа!». Бдительный Карацупа зорко стерёг границу. А девочка в красном галстуке поверх школьной формы обращалась к сверстникам с заявлением: «Пионер! Ты в ответе за всё!» С той поры много изменилось. Дядя Стёпа реинкарнировал в приговского «милицанера» и, наконец, в полицейского с Рублёвки. Чекисты, не меняя сути, многократно обновили аббревиатуру в названии своей конторы. Нарядные люди в латах и шлемах украсили московские улицы заграждениями. Да и сам, согласно общему закону, переменился я. А коричневая пуговка продолжала валяться на дороге, пока конкурирующие силовые корпорации не возродили доходный промысел по извлечению её из коричневой пыли. Пожилые учёные на лефортовских нарах, должно быть, не раз вспомнили стишки из своего детства: «Будь начеку, / В такие дни / Подслушивают стены. / Недалеко от болтовни / И сплетни / До измены».
Много лет назад мне довелось возглавлять одну государственную организацию. Обнаружилось, что незадолго до моего назначения была совершена афера – незаконно приватизированы несколько служебных квартир. Уголовный кодекс, как я теперь хорошо знаю, квалифицирует такие действия как мошенничество, то есть присвоение чужого имущества путём обмана. Я попытался вернуть необходимые организации квартиры. Бездействие в той ситуации означало бы сокрытие преступления. Прокуратура сообщила, что моё заявление передано органам, уполномоченным провести расследование. Каким именно органам – не уточнялось. С трудом удалось выяснить, что, выдержав положенные сроки на разных столах, заявление спустилось из городских структур в районные и наконец попало к участковому милиционеру. Там оно основательно залегло на дне какого-то долгого ящика. Закреплённая трудовым договором компетенция руководителя предусматривала мою ответственность за сохранность находившегося на балансе имущества. Я попросил помощи у профильного московского департамента, учредителя организации. С трудом вынудил руководителя подписать очередное заявление. Через несколько недель оно совершило тот же круг – от прокуратуры к участковому. Наконец участковый сообщил, что проведённое расследование не обнаружило признаков преступления.
Позже, начав работать в другом государственном учреждении, я столкнулся с устойчивой традицией разномастного и разнокалиберного воровства, прикрытого нехитрыми манипуляциями в бухгалтерском и кадровом учёте. Это воровство я резко прекратил, не вынося, как говорится, сора из избы. Одну ситуацию, однако, невозможно было исправить и неправильно было бы скрывать. По отчёту значительная сумма была израсходована на ремонт кровли. Но в сильные дожди сотрудники привычно подставляли под струи льющейся с потолка воды тазы и вёдра. Ни учредитель, ни прокуратура не ответили на обращения. С трудом отыскали руководителя конторы, якобы чинившей крышу. Он предложил «устранить мелкие недостатки в порядке выполнения гарантийных обязательств». И худо-бедно устранил. В эти же дни камеры видеонаблюдения зафиксировали, что из учреждения мимо безучастной охраны был вынесен ящик с новым дорогим оборудованием. Камера различала лица и номер машины, в которую загрузили ящик. На поданное в полицию заявление не последовало никакой реакции. Но через несколько дней, также ночью, какие-то люди выгрузили украденное оборудование перед служебным входом, нажали кнопку звонка и удалились. Ещё через несколько дней поздним вечером перед тем же служебным входом некто в капюшоне, забежав из-за моей спины, ударил меня кастетом в лицо и скрылся. Его лицо камера не зафиксировала, но он был описан свидетелями – он долго поджидал, когда я выйду после работы. Никакого расследования в ответ на поданное в полицию заявление не было проведено. Зато я и мой коллега стали получать СМС с угрозами и омерзительной антисемитской руганью. Скриншоты этих посланий вместе с номерами отправителей я передал полиции – и снова в ответ равнодушное бездействие.
В общем, пора было понять, что «милиция» бережёт не всех и охраняет не всё. Но временами вдруг встрепенётся по невесть чьему наущению и пойдёт рьяно проверять спектакли на экстремизм. А иные и вовсе объявит несуществующими.
Что же всё-таки заставляет доблестных российских правоохранителей время от времени со страстью и рвением приниматься за расследование каких-нибудь громких преступлений, часто мнимых? Кто и почему даёт им команду «фас»? В каждом случае, известном мне непосредственно или по рассказам встреченных в тюрьмах и судах людей, – свои особенности и свои подробности. Но почти всегда за этими расследованиями стоят интересы или обиды так называемых сильных мира сего. И только по приказу этих «сильных» охраняющие их разношёрстные силовики, не считаясь со временем и затратами, начинают действовать, обеспечивая заказанный результат.

В суды апелляционной инстанции по продлению меры пресечения зэков, как правило, не возят, они участвуют в заседании в режиме телеконференции. Меня привели в клетку-студию, включили трансляцию и оставили одного. В результате какого-то технического сбоя (там всегда случались какие-нибудь сбои) к одному каналу подключили меня и ещё двух бывалых арестантов. Всё время, пока работала трансляция, они маячили в отдельном окошке на экране. Познакомились: одного звали Валера, второго я не запомнил. Я получил море доброжелательных и полезных советов, как сохранить здоровье в тюрьме и как вести себя на судебных слушаниях. Они одобряли мою улыбчивость, но опытным глазом определили, что я волнуюсь, и довольно толково и остроумно подбадривали. Когда с большим опозданием судья С. Ю. Александрова соизволила впустить публику, Таня и многочисленные друзья, входя в зал, знаками приветствовали моё изображение на большом экране в зале суда. Мои нечаянные новые знакомые одобрительно отозвались о столь впечатляющей поддержке и ещё больше заинтересовались. Я аргументированно и довольно напористо изложил свои доводы. Мои новые знакомые с интересом слушали и продолжали подбадривать меня ужимками и редкими репликами. Когда судья объявила короткий перерыв для изучения материалов, не выходя в совещательную комнату, в наступившей тишине, к большому удовольствию публики, громко прозвучал квалифицированный вердикт зэков: «Лёха! Тебя заказали!» Апелляционное заседание, так же как и суд первой инстанции, не завершилось одним днём. Судья оказалась не готова к напору хорошо подготовленных и мотивированных адвокатов. Поэтому, выяснив, что я подавал возражения на протокол Басманного суда, а ответ на них ещё не получен, решила воспользоваться этим поводом, чтобы перенести заседание.
Экран монитора погас. Я остался один. Болела голова. Сильно хотелось пить. Время тянулось, а меня всё не выводили. На стене, помимо кнопки вызова охраны, – телефонная трубка, предназначенная, должно быть, для вызова технического специалиста на случай сбоя в трансляции. Безответные длинные гудки. На кнопку тоже никакой реакции. Пришлось трясти решётку, стучать по ней башмаком и кричать. Заметно хромавший, а потому прозванный Жоффреем де Пейраком детина в камуфляже добродушно поинтересовался, по какому поводу шум. Я возмущался тем, что битый час никто не брал трубку и не реагировал на звонок. Зачем? Надо было сразу решётку трясти, примирительно ответил страж. Это был плохой совет – при других обстоятельствах за такой шум можно было угодить в карцер. На вопрос, почему вдруг это стало можно, де Пейрак ворчливо сообщил, что «ни хрена не работает». А так у них тут образцовая тюрьма, всё строго по правилам, как в американском кино: глазок, сигнализация, электрозамок, видеорегистратор, лицом к стене, имя, возраст, статья…
Прошло несколько дней. Судья Дударь, удовлетворившая замечания прокурора, скорее всего, ею же и написанные, отказалась принять мои. Утруждать себя сравнением аудиозаписи заседания с текстом протокола никто, разумеется, не стал. За это время судья Мосгорсуда Александрова сумела лучше подготовиться и продолжила рассмотрение апелляционной жалобы. Суд явил очередную увесистую порцию чудес.
Я снова участвовал в режиме телеконференции. Но вот Масляеву почему-то доставили лично, явно отводя ей какую-то особенную роль. При этом не явился её адвокат. Судья сочла возможным провести заседание в его отсутствие. Нина Леонидовна заявила об отказе от апелляции. Чувствовалось, что в силу каких-то неявных обстоятельств отношения Масляевой со следствием и судом приобрели новый истерический оттенок. Должно быть, Полковнику Цахесу оказалось недостаточно прежних лжесвидетельств и на Масляеву сильно давили, требуя новых.
В своей речи я рассказал, как задним числом появилась новая версия обвинения, и сравнил трюкача Цахеса с престидижитатором, на глазах изумлённой публики извлекающим из цилиндра кролика. Как оказалось, фокусы злых клоунов, глумящихся над законом и здравым смыслом, только начинались. Карпинская и Лахова представили материалы, которые убедительно доказывали, что решение Басманного суда о содержании меня под стражей незаконно, так как основано на преступной подделке следователя. При малейшем проблеске стыдливости и уважения к праву эти доводы не оставляли апелляционному суду шанса отклонить жалобу, оспаривающую решение судьи Дударь. Адвокаты попросили исследовать эти материалы в заседании. Отказаться от такого исследования можно только при согласии всех участников, но судья Александрова, демонстративно нарушая УПК, отказалась. Карпинская заявила ей отвод. Несложно догадаться, что, подобно коллеге Дударь, Александрова приняла решение оставить себя в процессе.
Гнилая конструкция, которую пытались соорудить следователи, шаталась и трещала, им не хватало аргументов, поэтому Юнга приволок в суд протоколы свидетельских показаний взрослых дочерей Масляевой. Сёстры жаловались, что за ними ведётся слежка, организованная, они в этом уверены, Серебренниковым, Итиным и сидящим в тюрьме Малобродским. Допросы были проведены разными следователями с разницей в пять дней, но тексты протоколов совпадали от буквы до буквы. Если верить датам, то следствие располагало этим убийственным доказательством моей злокозненности ещё до заседания Басманного суда, но отчего-то постеснялось его приобщить и лишь несколько дней спустя направило в ФСБ просьбу выяснить личности преследователей и защитить свидетелей. Налицо была очередная фальшивка, специально состряпанная к заседанию. Позже в деле я обнаружил и ответ ФСБ: в нём сообщалось, что информация о преследовании сестёр Масляевых не подтвердилась.
Мне нравится принятое в суде обращение «Ваша честь». Я пояснил, что не просто следую красивому ритуалу, но предполагаю, что честь в суде – не пустой звук. Я выразил уверенность в том, что все участники процесса обязаны руководствоваться законом и несут равную ответственность за свои слова и поступки. Я потребовал, чтобы следствие обосновало подозрение в моей виновности фактами и доказательствами. В ответ неслось привычное и скучное «есть основания полагать», «собрано достаточно улик и доказательств». Я просил разъяснить, почему вопреки принципу единообразного применения закона все обвиняемые помещены под домашний арест и только я один в тюрьме. В ответ цитировались положения кодекса: обвинён по тяжкой статье, скроется, уничтожит улики, запугает свидетелей, повлияет на ход расследования. Но в отношении остальных приводились те же нелепые, надуманные доводы. Доказательствами следствие себя не утруждало. Я требовал соблюдения своего права на защиту и признания презумпции невиновности, цитировал статьи Конституции и УПК. На эти требования вообще не было ответов. Всякий раз, когда я разражался своими филиппиками, в глазах судей и прокуроров отражалась смесь недоумения, раздражения и даже будто бы своеобразной жалости: вот же, опытный человек, должен бы понимать правила игры, в которой никто не выйдет за ограниченный флажками коридор, а ведёт себя как неразумное дитя. Композитор Александр Маноцков сказал: Малобродский ведёт себя так, как будто существует настоящий суд. В самом деле, я осмысленно придерживался этой позиции, и не только из наивного донкихотства. Это стратагема – игнорировать нечестные правила, презирать подменяющий правосудие сговор суда, прокуратуры и следствия, настаивать на логике, здравом смысле и соблюдении закона. Перспектива разбиться при этом о стену, сложенную из трусости, вранья и коррупции, была практически неминуема, но принять аморальные правила оппонентов само по себе было бы поражением. Единственную для себя возможность я видел в том, чтобы пребывать в не пересекающихся с ними мирах и продолжать стучаться в казавшуюся нерушимой стену. Впрочем, я подозревал, что внутри эта стена изрядно сгнила. Я знал о пикетах и акциях в театрах, о поручительствах и ходатайствах, о посвящённых «Театральному делу» газетных статьях и радиопередачах. В коридорах и залах судов я видел много красивых, честных лиц знакомых и незнакомых людей, пришедших поддержать меня, и понимал, что не вправе подвести их. Малодушие, измена собственному достоинству были бы предательством и косвенным соучастием в развращении умов и притуплении совести. Особенно остро я чувствовал ответственность перед молодыми людьми. Моё поколение, вероятно, повинно в том, что их жизнь начинается в таком неприглядном, бесчестном мире. И перед ними я испытывал стыд за не мною устроенный бездарный фарс, свидетелями и невольными участниками которого мы оказались.
Бурное многочасовое заседание закончилось. Прошло не больше десяти минут, и судья фирменной невнятной скороговоркой зачитала постановление, несомненно заранее заготовленное: в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, решение Басманного суда оставить в силе.
Трансляцию не отключили. В результате какого-то очередного сбоя я стал свидетелем разговора двух тётушек: подследственной заключённой и её адвоката. О моём невольном соглядатайстве они не догадывались и мирно, словно две подруги на лавочке в сквере, вполголоса обсуждали наболевшее. Адвокат утешала и подбадривала свою подопечную. Видимо, не рассчитывая на успешный исход дела, советовала не пренебрегать молитвой и искать утешение в вере. Вторая рассказывала, что была у тюремного священника на исповеди. «Батюшка, отец Андрей, сказал: вот ты кладёшь записочки о здравии, там, и так далее, пиши на обороте свой вопрос, я буду отвечать».
Люди, способные задавать вопросы себе и миру, оказавшись в тюрьме, не всегда находят ответы самостоятельно. Некоторые, нуждаясь в духовной опоре, приходят к вере. У кого-то убеждения и отношения с религией сложились ещё на воле. Так или иначе, по статистике, процент верующих в тюрьме выше, чем за её стенами. Но я мало встречал людей, которые в заключении открыто демонстрировали свою веру. Истинная религиозность, как правило, неочевидна и редко встречается по обе стороны решётки.
Как-то мне довелось несколько часов провести в камере конвойного помещения Басманного суда с известным петербургским предпринимателем, проходившим по очень резонансному делу. После обмена приветствиями и непродолжительного, для знакомства, разговора я углубился в изучение материалов к предстоящему заседанию. Сосед вздыхал, кряхтел и тихонько причитал в полуметре от меня на короткой, в ширину камеры, лавочке. Вдруг раздалось странное басовитое пение. Поднимая глаза от документов, я успел задаться вопросом: здоров ли мой сосед? Внушительных размеров фигура соседа мерно покачивалась во всех направлениях, из стороны в сторону и взад-вперёд. Ещё секунда, и стало понятно: бизнесмен молился. К двери он прикрепил бумажную икону, в руках держал молитвенник. Я всегда считал молитву, даже коллективную, довольно сокровенным актом. Когда же человек обращается к Творцу один на один, то даже интимным. Сосед же, игнорируя моё присутствие, буквально грохотал, вероятно, твёрдо решив докричаться до бога если не силой убеждения, то силой голоса. При этом он подражал какому-то явно самодеятельному распеву, пародируя стиль церковной службы, которую, скорее всего, видел по телевизору. В дополнение цельной картины он размашисто крестился и кланялся. Не в силах проявить приличную событию деликатность, я остолбенело смотрел и слушал. Почувствовав, что я замер, сосед обернулся, извинился и спросил, не возражаю ли я против продолжения молитвы. Я не возражал. Но когда священнодействие закончилось, не удержался от вопросов. Человека этого я видел впервые, но достаточно знал о нём, читал о его деле. Какие-то дополнительные подробности он успел сообщить мне сам до того, как впал в одновременно трогательный и карикатурный экстаз. Он представлялся персонажем странным и, в общем, вполне одиозным. Горячо уверовал – так он, во всяком случае, уверял, попав под следствие и проведя год в тюрьме. Странной манере возносить молитвы никто его не обучал, просто ему казалось, что так эффектнее. Подозреваю, что склонность к публичным эффектам немало способствовала ему по пути в тюрьму.
Следующая встреча с высоким накалом религиозных чувств произошла, когда я был переведён в шестой корпус СИЗО 77/1. Мне довелось недолго соседствовать в одной камере с православным и мусульманином. В распоряжении первого были складень и Евангелие, второй владел переводным Кораном и ковриком. С перерывами на молитву, еду и курение табака они вели бесконечный и донельзя вульгарный диспут, впрочем, вполне миролюбивый. Уровень аргументов с обеих сторон не выдерживал никакой критики. Мне потребовалось немало искусства, чтобы не быть втянутым в это горячечное, но бессмысленное словоблудие. И я испытал облегчение, когда меня перевели в другую камеру.
Мой православный сосед, к слову, бывший руководитель аффилированного с системой исполнения наказаний унитарного предприятия, долго и до поры тщетно просил о свидании со священником. В «Матросской тишине» три домовых церкви: Воздвижения Честного Креста Господня, Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы и Святого праведного Иоанна Русского. Окормляют православных узников и их стражей полтора десятка священников. Уверен, что Виталий в конце концов смог исповедаться, причаститься и получить утешение. Мне же и не искавшим духовного общения с соседями по камере 616 за пять месяцев, проведённых в шестом корпусе, увидеть священника не довелось. Под Рождество и на Пасху через охрану все получили скромные гостинцы и популярные православные брошюрки. В «кремлёвский централ», напротив, священник наведывался регулярно, независимо от вероисповедания обитателей. Боюсь оскорбить чьи-нибудь искренние чувства повторением нелепого подозрения, но многие объясняли такую активность высоким статусом и достатком большинства заключённых. Сопровождавшие батюшку улыбчивые старушки агитировали жертвовать на восстановление храма.
Храм иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» существовал в слободе Матросская Тишина при Московской исправительной тюрьме (а ещё прежде – Смирительном работном доме для предерзостных) с середины XIX века. В двадцатые годы века двадцатого храм закрыли, а затем и разрушили. Теперь восстанавливают, закладной камень освятил лично патриарх Кирилл.
Правоверный ислам в той камере представлял молодой ингуш. Он, к сожалению, вовсе не мог рассчитывать на отправление своих религиозных потребностей. По некоторым данным, доля мусульман среди заключённых московских тюрем достигает сорока процентов. Говорили, что когда-то, лет восемь назад, один из служебных кабинетов был приспособлен под молельную комнату, но никто из моих собеседников не знал, насколько активно она посещалась, и мне неизвестно, существует ли она сейчас. Знаю, что некоторые мусульмане, проведшие в СИЗО долгое время, ходатайствовали о посещении муллы, но по каким-то причинам безрезультатно.
Евреев в тюрьме, я уверен, много. Конечно, далеко не все они религиозны. Тех, кто открыто придерживается традиции, единицы. Мой поверхностный интерес скорее исторического и культурологического свойства: Танах, Зоар и «Путеводитель растерянных» мне любопытны в такой же степени, как Веды, Трипитака, Библия и Коран. Тем более я благодарен Тане и нашему другу Ашеру, чьими стараниями я познакомился с людьми, о которых сейчас расскажу.
Как-то раз, на исходе первого месяца моего пребывания в «кремлёвском централе», меня вывели из камеры. В свиданиях мне было категорически отказано, значит, это могло быть либо вызовом на допрос к следователю или тюремному оперативнику, либо посещением адвокатов. Визитов Карпинской и Лаховой я всегда ждал с нетерпением. И не только потому, что нуждался в их профессиональной юридической помощи – умные и обаятельные собеседницы, они были единственными связными с нормальным миром, рассказывали о делах и самочувствии Тани, о театральных новостях, об акциях и выступлениях в мою поддержку. Но в тот раз случилось неожиданное: навстречу мне по тюремному коридору шёл раввин. В широкополой шляпе и безупречно по фигуре пошитом лапсердаке, выглядел он не героем местечкового фольклора, но уверенным в себе холёным европейцем. Глаза смотрели внимательно и весело. Аарон Гуревич, член ОНК и глава департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями, принёс мне несколько книг, среди которых – компактного формата Сидур. Книги были изъяты для проверки и попали ко мне через несколько дней. Ребе Аарон передал мне приветы от друзей и заверил в поддержке московской еврейской общины. Затем помог мне прочитать молитву на иврите. Притихшие тюремщики теснились у открытой двери в отведённый нам кабинет. По инструкции они не могли оставить нас наедине и первое время смотрели и прислушивались с любопытством. Говорили мы громко и по-русски, но наши стражи, видимо, совсем не понимали о чём, а потому скоро заскучали. Как честный человек, я сообщил о своей, мягко выражаясь, умеренной религиозности. По счастью, это не смутило раввина Гуревича, и мы ещё долго беседовали, в том числе на светские темы. Позднее он ещё несколько раз навещал меня в «кремлёвском централе» и потом, в последний месяц заключения, в СИЗО № 4 «Медведь». В «Медведе» он добился организации небольшой синагоги со скромной библиотекой и простейшими атрибутами: мезузой, менорой, талесом…
В течение пяти месяцев между «Бастилией» и «Медведем», которые я провёл в шестом корпусе «Матросской тишины», меня несколько раз посетил молодой раввин Ицхак… Полная противоположность рабби Гуревичу, он был начисто лишён апломба и говорил суетливой скороговоркой. Ицхак не позволял себе пренебрегать ритуальной стороной своего ремесла и чуть не силой наматывал мне на руку и на лоб кожаные ремешки тфилин перед молитвой. Уклониться от краткой и поспешной молитвы не было ни единого шанса. Шляпа его всегда была немного набекрень, и, несмотря на жидкие рыжие пейсы и прочие еврейские атрибуты, он неотвратимо напоминал недоросля-семинариста. По сравнению с основательным, прекрасно образованным Гуревичем Ицхак казался более легкомысленным и поверхностным, но лучился добротой и весёлостью.
Незадолго до Песаха в дар от общины мне передали большую коробку мацы. Я захватил её с собой при переводе в СИЗО «Медведь». Там, в восьмиместной камере в компании двенадцати человек, из которых большинство были таджиками, узбеками и татарами, а с ними пара православных русских и один бесшабашный грузин, мы дружно преломили эту мацу в ночь с 14 на 15 нисана 5778 года от сотворения мира.
Небольшого размера молитвенник, подаренный рабби Гуревичем, был для меня ценен в связи с вот ещё каким обстоятельством: в «кремлёвском централе», в отличие от менее строгих СИЗО, где не возбранялось взять с собой в суд книгу, газеты и что-то из еды, перед тем как передать меня конвою, с издевательским педантизмом изымали всё чтиво и любые продукты. Выезд в суд обычно сопряжён с утомительными многочасовыми разъездами в автозаках и долгим ожиданием в камерах. Если не занимать себя чтением, можно сойти с ума. Чтобы зэк на выезде не помер с голоду, ему выдавалась серая картонная коробка с надписью «Индивидуальный рацион питания для спецконтингента (РП)», внутри которой были частично съедобные консервы, галеты и пакетик чая. Что касается книг, исключение составляла религиозная литература. Отбирать её не решались на фоне обострения болезненной борьбы против оскорбления религиозных чувств в нашем внезапно и тотально уверовавшем обществе. И тут молитвенник оказался очень кстати.
Во вторник, третий день после субботы, левиты в Храме пели Песнь Асафа: «Бог явился в сонме великом, в Небесном суде вершит Он суд: «Доколе будете вы судить несправедливо и потакать злодеям?..» Но не постигнут и не поймут они, блуждают во мраке, сотрясаются все устои земли».
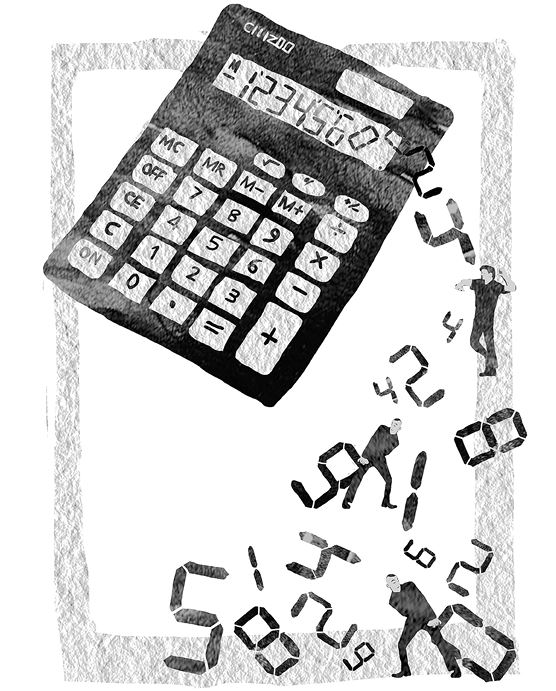
17 октября 2017 года выпало на вторник. Меня привезли в Басманный суд для очередного продления меры пресечения. «Пусть правосудие хлынет как вода, и правда – как неиссякающий поток», – вдохновляла меня Книга пророка Амоса. Но Артур Геннадьевич Карпов своё вдохновение черпает из других колодцев. Он бесспорный победитель забега в мантиях от предвзятости к беззаконию. Встречаться с ним в судах мне довелось чаще, чем с другими участниками подобных «весёлых стартов». Нельзя не посвятить ему отдельной главы.
Легенда об искусном и хитром судье Артуре
Я поведаю читателю лишь о тех подвигах достославного Артура Карпова, которым лично сподобился быть свидетелем и даже невольным участником. Другие же бесчисленные подвиги сего судьи и чудеса, им прилюдно творимые, оставлю несомненно более совершенным перьям просвещённых летописцев и поэтов, которых заслуживают личность и эпоха славного Артура.
Но вначале кратко опишу моего героя. В затхлых коридорах бесчисленных судов, опутавших паучьей сетью мою бедную родину, трудно сыскать более отвратительного, лживого и беспринципного существа. При этом внешность он имеет дородную и обманчиво благородную. Мантия красиво облегает его статную фигуру, походка тверда и решительна. Зычный голос его звучит твёрдо, но в то же время речь не отличается внятностью и членораздельностью. Впрочем, и в речах его товарищей, членов продажного судейского ордена, мало кто из посторонних может разобрать осмысленное содержание с первого, а то и со второго раза. Сказывала мне одна весьма знающая старуха, что судей уровня Артура специально умелые риторы учат говорить так, чтобы клубы значительности вились вокруг слов их, а связных мыслей невозможно было бы ухватить. Постигают они это мастерство, дабы чернь из подсудимого простолюдья или докучливые выскочки из адвокатского сословия не поганили своим произвольным толкованием священной абракадабры, доступной пониманию лишь посвящённых. Однако есть в судейских речах такие обязательные для произнесения фразы, которые невозможно обратить в абсолютную бессмыслицу, которые, как бы судья ни старался, всё-таки содержат толику умопостижимых сведений. Такие места надлежит проговаривать томным, но быстрым шёпотом, неуловимым ушами простых смертных.
Злые глаза Артура, глазёнки-лютики, обычно глядят сквозь человека, как бы того человека и вовсе перед ним нет. Когда же приходится Артуру по необходимости делать вид, что он слушает оправдания судимых им жалких людишек, в глазах его отражается смесь досады и недоумения. Что они могут сообщить суду такого, что заставило бы Артура усомниться в решениях, которые заблаговременно сообщили ему сильные мира сего? Ничего. Но судья вынужден соблюдать докучливый ритуал, ибо такова воля пославших его, тех, кто мудрее и выше. Обыкновенно в своё оправдание людишки издают жалкое блеяние, не нарушающее предписанного ритуалом порядка. Но иногда встречаются и неразумные, бесноватые, дерзающие возражать. В таких случаях непроницаемые матовые глазки начинают поблёскивать, краснеть и прямо-таки буровить несчастного, оказавшегося на беду свою в воле злобного Артура. Признаемся, что изредка кто-нибудь нет-нет да и смутит искусного судью. В такие постыдные минуты в его глазах можно уловить движение, намекающее на его человеческую природу. Не подумайте, что я имею в виду что-нибудь вроде совести – нет, конечно же нет; только раздражение, трусость и мстительность.
Но довольно предуведомлений. Перейдём к подвигам.
Семнадцатого октября Артур притворно гневался из-за дурного качества материалов, представленных ему следователем. Артистизм на грани скоморошества – его конёк, ценимый, я думаю, силами и начальствами. В кулуарах он «похлопывал по плечу» адвокатов, хвалил их выступления и доверительно жаловался на некачественное расследование, которое его, судью, ставит в крайне затруднительное положение, ведь ему необходимы хоть мало-мальски убедительные доводы и хоть какое-то подобие фактов – приходится делать работу за себя и за болванов-следователей. Похоже, при этом он любовался собой, не допуская мысли, что кому-то из участников фарса может прийти в голову возражение против предначертанного сценария и незыблемого распределения ролей. Но я возражал. Артур негодовал. Мгновенно сменив тактику и бессовестно злоупотребляя своим судейским молотком, он прерывал меня на каждом слове, не давая закончить ни единой фразы. «Молоток» тут упомянут фигурально – самоуверенный Артур не пользовался при мне ритуальным реквизитом. Не желая далее оставаться в узилище, я утверждал, что мои гонители держат меня в заточении единственно с целью сломить мой дух и принудить к самооговору. В доказательство я требовал огласить в заседании и учесть при принятии решения мою переписку с прокуратурой, МВД и СК, которая живописала и подтверждала злодейства следователей. Карпов отказался оглашать жалобы, пообещав изучить их в ходе заседания. Излишне говорить, что он соврал. Об этом свидетельствует протокол заседания, с которым, кстати, вышла примечательная история. В документе, доставленном мне в тюрьму через несколько дней, была описана лишь небольшая часть процесса, он обрывался, не дойдя до середины. Среди прочего были указаны имена посторонних адвокатов и прокурора, не принимавших участия в заседании. Известно, что судейские стряпчие печатают решения под копирку; новостью оказалось, что судья подписывал их не читая. Лишь к ноябрьскому апелляционному заседанию появилась подчищенная и выхолощенная версия. Халтура в изготовлении протокола выразительно венчала устроенный Карповым балаган, но не влияла на суть решения – оставить меня в застенках ещё на три месяца.
Из материалов дела было неясно, кому именно нанесён ущерб. Ксения Карпинская настаивала, что в отсутствие потерпевшего обвинение в мошенничестве, то есть присвоении чужого имущества, не имело смысла. В том октябрьском заседании выяснилось наконец, что потерпевшим признано Министерство культуры Российской Федерации. Постановление об этом было подписано почти пять месяцев назад. Но следствие долго скрывало, кто именно понёс ущерб. Почему? Думаю, потому что не могло определиться с величиной этого мнимого ущерба. Какую сумму прилично украсть, чтобы приговор знаменитому режиссёру выглядел убедительно? Начинали с миллиона двухсот тысяч. Когда обвинили меня, сумма выросла до двух с половиной. Но когда в дело вступил Полковник Цахес, масштаб радикально поменялся: сначала шестьдесят восемь миллионов, а потом и все сто тридцать три. Мне кажется очевидным, что без давления со стороны следствия в головы министерских чиновников не могла бы прийти столь откровенная чушь. Цели проекта «Платформа» были выполнены полностью и, по общему признанию экспертов и зрителей, с отличным результатом. Министерство соглашалось с такой оценкой и направляло Серебренникову благодарственные письма. Что касалось движения средств, роль Министерства сводилась к транзиту: оно получало деньги субсидии на свой казначейский счёт и перечисляло их «Седьмой студии» для реализации мероприятий «Платформы». То есть даже теоретически не могло понести потерь. Тем не менее «потерпели» – под диктовку следователя писали чиновники заявление. А в чём именно потерпели и каков размер ущерба, мы не знаем, этого следователь пока не сказал.
По окончании заседания я через адвоката попросил, чтобы Цахес посетил меня в СИЗО. Когда Ксения озвучила просьбу, полковник впал в неожиданное оцепенение. «Зачем?» – спросил он как-то затравленно. «Мой подзащитный хочет помочь вам установить истину. Хочет, чтобы вы лично задали интересующие следствие вопросы, и готов подробно ответить на них». За всё время длившегося больше года расследования руководитель следственной группы ни разу так и не удосужился допросить меня. По слухам, полковник Лавров уже выслужился в генералы.
В апреле следующего года недоброе знакомство с Карповым продолжилось. В очередной раз мне продлевали содержание под стражей. По закону ходатайство от следователя должно было поступить в суд не позднее семи дней до истечения предыдущего срока, а судья не позднее пяти дней после этого должен принять решение. Всякий, разумеющий счёт числам, сообразит, что при соблюдении этого условия решение должно быть принято самое меньшее за два дня до истечения срока. Однако суд был назначен ровно на тот день, когда темница моя должна была бы разверзнуть двери. То есть назначен он был совершенно незаконно, задним числом. Я указал на это прокурору, но блюститель закона осталась равнодушной. Артур покраснел, рассердился, промокнул платочком вспотевшую лысину и продолжил заседание. В обоснование своего ходатайства Полковник Цахес не первый раз приложил заявления дочерей Масляевой о слежке и угрозах в их адрес. Я в это время уже начал знакомиться с материалами дела и увидел в одном из томов официальную справку ФСБ о том, что сведения, изложенные в заявлении, не подтвердились. Справка эта находилась в распоряжении следствия уже полгода, но Цахес и его присные продолжали подавать в суды эти подложные документы. На это также я указал судье Карпову. Но разве мог он перечить следствию и своему басманному начальству? Нет. Зато привычно и легко поступался законом и совестью. Оба позорных эпизода он стыдливо вымарал из протокола, будто бы эти вопросы и не возникали. Он, конечно, понимал, что недобросовестное протоколирование легко разоблачить, так как зал был полон журналистов и велась аудиозапись заседания, но поступал подобно карапузу, который уговорил себя, что стал невидимым, когда зажмурил глаза.
Через десять дней в другом маленьком зале Басманного суда Карпов совершил ещё один подвиг в мою честь. Рассматривались моя жалоба на следствие. Тремя месяцами раньше какая-то неведомая мне сила внезапно постановила завершить предварительное расследование и передать дело прокурору. Цахес, конечно, подчинился, но поскольку расследовать ему было практически нечего, то и никакого дела у него не было. Поэтому следственная группа поспешно собирала всякий бумажный мусор и беспорядочно засовывала его в картонные обложки, пытаясь создать впечатление, будто была проделана большая работа. Эти наспех собранные папки приносил мне в тюрьму новый следователь Пётр Сергеевич Кудаев. Он нескоро соображал и медленно двигался, за что и снискал прозвище Майор Вихрь. Следователи старательно затягивали процесс моего ознакомления с материалами. Во-первых, они пытались выиграть время, чтобы успеть имитировать хоть какие-то результаты расследования. Во-вторых, всё, что они могли использовать против меня, представляло собой фальсификации и лжесвидетельства. Эти подделки приберегались напоследок, чтобы не дать мне и адвокатам возможности разоблачить и оспорить их; в лучшем для следователей случае мы вообще не должны были увидеть их до суда. Если до начала ознакомления с делом местом моего заточения была «Матросская тишина», что в пятнадцати минутах ходьбы от здания Следственного комитета, то теперь Полковник Цахес постановил отправить меня в СИЗО «Медведь». Майор Вихрь полтора часа добирался туда на метро, автобусе и пешком. Являлся он мне не каждый день. На просьбы приносить больше материалов сетовал, что тяжело носить больше трёх томов. Обычно он сначала давал прочитать продолжение каких-то документов, а затем через несколько дней появлялось начало, часто одни и те же тома приносил повторно. При этом Майор Вихрь был в равной степени беззлобен и равнодушен ко мне и происходящему. Я дразнил его, провоцировал, оскорбительно отзывался о его коллегах, но ничто не выводило его из глубокой летаргии. Скорее всего, он не определял порядок и тактику ознакомления, а просто выполнял повинность курьера. Закон предусматривает, что по окончании расследования все собранные материалы и доказательства должны быть предъявлены обвиняемому и его защитнику в подшитом и пронумерованном виде. В каждом протоколе ознакомления я записывал требование о соблюдении этой нормы. Опасаясь, что у меня и адвокатов не будет достаточно времени для подготовки к защите, я направил десятки ходатайств о том, что могу и хочу знакомиться с бо́льшим объёмом материалов. Цахес мои требования и ходатайства игнорировал, поэтому я просил суд обязать следователей ускорить процесс.
Судья Карпов счёл, что действия следственной группы не содержат признаков намеренного затягивания, а темп ознакомления – два с половиной тома за рабочий день – достаточно высокий. Немногословный наркоман, выслушав за вечерним тюремным чаем мой рассказ о двух совершённых Артуром в один день подвигах, задумчиво изрёк: «Ну ясен пень, это он напоказ такой грозный, а на деле следаки его наклоняют». Боюсь, мой сосед был прав: «следаки» действительно регулярно «наклоняют» судью Карпова и большинство его коллег. В прекраснодушных грёзах мне всё мнится, будто наклоняются не все.
Прошло всего полтора месяца. Теперь уже следствие обратилось в суд с требованием ограничить меня и адвокатов в сроках ознакомления. К этому времени меня отпустили из тюрьмы под подписку о невыезде, а адвокаты сделали фотокопии большей части материалов, что позволило знакомиться с ними не только в Следственном комитете, но и дома. В новых обстоятельствах темп моего чтения возрос до четырёх томов в день, в каждом томе в среднем по 250 листов. Но следователи против очевидного заявляли, что теперь мы затягиваем процесс. И вновь принять законное и справедливое решение было поручено судье Карпову.
Следствие в том заседании представлял дослужившийся до звания капитана Розовощёкий. Незадолго до того в деле был обнаружен подделанный им и Полковником Цахесом протокол допроса Ларисы Войкиной, работавшей на «Платформе» бухгалтером под руководством Нины Леонидовны Масляевой. Другая версия этого же протокола, содержавшая существенные отличия, трижды подавалась в суд как обоснование ходатайств о мере пресечения, но новая поддельная версия значительно усиливала возможности обвинения. Заявление об этом уголовном преступлении я направил в ФСБ и Генеральную прокуратуру. Пикантность заключалась в том, что именно судья Карпов принимал решения на основании этого недопустимого доказательства, не исследовав его должным образом. Бессмысленно в продажном суде тягаться с преступником-следователем. Я заявил Розовощёкому отвод. Основания для этого были столь убедительными, что пренебречь ими казалось невозможным. Но не таков Артур Карпов! Всего секунду он был смущён. Признаюсь, я с удовольствием наблюдал его растерянную раскрасневшуюся рожу. «Вы что же, вводили суд в заблуждение?» – непривычно вяло, без огонька, вопрошал он лоснящегося от пота толстяка, поблёскивавшего новенькими капитанскими погонами. В обычной, удобной для себя ситуации Артур любил и умел создать иллюзию состязательности и равноправия сторон. И пусть это никогда не влияло на предопределённое решение, в этом проявлялась его художественная натура. Но в тот день было не до искусства. Совладав с собой, Артур повёл себя по-бандитски нахраписто. Не дождавшись ответа Розовощёкого – да и что тот мог бы ответить? – он отклонил ходатайство об отводе следователя и постановил ограничить меня и адвокатов в сроках ознакомления с делом.
Последний раз с премудрым Артуром мы встретились заочно. Как и следовало ожидать, мои заявления о подлоге протокола из ФСБ и прокуратуры были направлены в Следственный комитет. Предполагалось, видимо, что, подобно унтер-офицерской вдове, следователи должны сами себя высечь. Закон требует, чтобы по заявлению было возбуждено уголовное дело. Или в возбуждении дела должно быть официально отказано. Но следствию закон не писан. Заставить его расследовать собственные преступления может только суд. По принадлежности это Басманный суд. Моя жалоба вновь попала к Артуру. В рассмотрении было отказано.
Нет сомнений в безусловной аффилированности судьи Карпова со следствием. Нет сомнений в том, что сотни других судей также несамостоятельны и полностью управляемы. Карпов, и никто иной, попал на эти страницы лишь потому, что автор имел несчастье несколько раз столкнуться с ним в судебных залах. И справедливости ради признаем, что при всей одиозности судья Карпов – яркий, неординарный персонаж.

Массовое сознание покоится на небольшом наборе относительно устойчивых предубеждений. Незначительные вариации этого набора наблюдаются в разных возрастных и социальных группах и зависят от уровня достатка и образования. Кажется, в ничтожной степени предубеждения меняются во времени; они стационарны. Чем более примитивны принадлежащие группе люди и чем более прямолинейны связи между ними, тем схематичнее они рассуждают и действуют. Предубеждения, определяющие образ действий российского вертухая, отражает сомнительная мудрость «пословиц и поговорок русского народа». Вертухай должен оправдать в собственных глазах выбор непрестижной, традиционно презираемой профессии, поэтому верит, что «нет дыма без огня» и что «следователь разберётся». Он справедливо полагает, что «вор должен сидеть в тюрьме», и убеждён, что если уж пойман, то точно вор. Он уважает силу, признаёт незыблемый авторитет власти – «начальству виднее», «я начальник – ты дурак…» – и сам наслаждается данной ему маленькой властью, сознанием, что от него зависят другие люди, – это сатисфакция за собственное убожество. В последнее время, с ростом количества экономических дел, часто политически обусловленных, заметно поменялся состав сидельцев. Зарекаться от тюрьмы и сумы в России – непростительное легкомыслие. За решёткой оказалось много хорошо образованных, самостоятельно мыслящих людей с убеждениями и иммунитетом к коллективным предрассудкам. Но «в тюрьму двери широки, а обратно узки». Два мира вынужденно учатся сосуществовать и взаимодействовать. Одетым в форму людям с ключами от тюремных дверей стало трудно хранить девственность своих незамысловатых жизненных установок. С одной стороны, чем состоятельнее был заключённый в прошлой жизни, тем слаще вертухаю сознавать свою над ним власть. С другой стороны, его ограниченное существо пасует в нестандартных ситуациях, не описанных «понятиями» прямо и однозначно. Получая отпор не в привычной для себя уркаганско-уголовной стилистике, сталкиваясь со спокойным достоинством, он от неожиданности теряет самоуверенность и проникается классовой ненавистью к арестанту. Чувство это дополнительно питается тем, что среди «экономических» заключённых много людей с хорошим достатком. От родственников и друзей они получают обильные передачи с продуктами, сигаретами и вещами, которые не могут себе позволить тюремщики. Когда, словно в насмешку, какому-то зэку в один приём присылают деликатесы стоимостью в его месячную зарплату, он чувствует себя оскорблённым. Убеждение в том, что этот зэк в приличном спортивном костюме – преступник и вор, больше не требует доказательств. Классовую ненависть подкрепляет расхожее представление о том, что в тюрьме положено страдать. А эти, сытые, смотрят уверенно и независимо, а из камеры то и дело доносится смех. Не страдают, в общем, надо помочь.
Разумеется, вертухайское сословье неоднородно. Нельзя всех подогнать под единый типаж и всему дать универсальное объяснение. Конкретный человек и отдельная судьба могут быть рассмотрены под иным углом, возможно, с более сочувственным и внимательным отношением. Не стану углубляться, но признаю, что жалкое бытие в значительной степени определило сознание охранников, конвоиров и приставов. Их можно если не оправдать, то попытаться понять. Исключение составляют садисты, находящие в тюрьме применение своим маниакальным наклонностям, и движимые вдохновенной корыстью вороватые начальники да опера-взяточники.
В системе исполнения наказаний, по моим наблюдениям, встречаются четыре типа сотрудников. Одни своим положением тяготятся, как бы вынужденно терпят свою жизнь. Другие – энтузиасты службы. Истоки их энтузиазма могут быть разными: кто-то прельщается карьерными перспективами, но есть и поэты своего дела, горят на работе по вдохновению. Допускаю, что встречаются идейные вертухаи, искренне убеждённые, что служат общественному благу. Так или иначе, все, принадлежащие к типу энтузиастов, оправдывают свой профессиональный выбор соображениями долга. Люди третьего типа – деграданты или латентные маньяки. Четвёртыми движет корысть, они циничны и беспринципны. Третьи и четвёртые суть объекты Уголовного кодекса и криминальной психиатрии. Я немного расскажу об избранных представителях двух первых типов.
Если прозвища следователям давал я сам, исходя из своих непосредственных впечатлений, то клички сотрудников тюрьмы, порой труднообъяснимые, я узнавал от своих соседей-старожилов. Так как общение между камерами «кремлёвского централа» было практически исключено, то в разных камерах одни и те же люди прозывались по-разному. Забавными персонажами были офицеры – старшие смен и дежурные помощники начальника СИЗО. Их подлинные имена неизвестны. Немногословное общение с ними ограничивалось утренними и вечерними проверками, проходившими согласно скучному однотипному сценарию. Периодически они сопровождали обход начальника или представителей общественной наблюдательной комиссии. Для меня они отчасти реальные, а отчасти придуманные люди. Об одном из них, Псине, я уже рассказал. Вот ещё несколько портретов.
Голубоглазый начинающий полнеть майор обладал нетипично большой копной светлых вьющихся волос. Говорил тихо и медленно. Улыбался грустно, мечтательно. И весь казался каким-то мягким и нежным. Куртка и колпак повара были бы более органичными ему, чем форма офицера ФСИН. В одной из камер его почему-то звали Элвис, хотя он ничем не проявил своих музыкальных дарований. В другой – более обидно, но и более точно майора дразнили Мальчик-Девочка. Я про себя называл его Мальвиной, но не говорил об этом соседям, потому что не хотел, чтобы этот безобидный человек был объектом насмешек. Из десятков тюремщиков, которых я повидал за одиннадцать месяцев заключения, пожалуй, только он да ещё Иваныч вызывали пусть не симпатию, но нейтральное чувство, без примеси презрения и брезгливости.
Конь или, по другой версии, Омоновец был ему полной противоположностью. Немолодой, но стройный, атлетичный, высокий, он, казалось, непрерывно любовался своей молодцеватостью. Ещё он держал себя за весельчака и острослова. Скаля в широкой улыбке поистине лошадиные зубы, он громче всех смеялся над своими солдафонскими шутками. Однажды на утренней проверке я, в тот день дежурный по камере, докладывал Коню: в камере двое, один на выезде (Диму Попелыша рано увезли в суд). Хохотнув и по-ленински прищурившись, Конь переспросил: точно на выезде? Учитывая строгие порядки и повышенные меры безопасности «кремлёвского централа», это звучало парафразом старинного анекдота, в котором тюремщик, позвякивая связкой огромных ключей, издевательски интересовался у арестанта: «А куда ты, нафиг, денешься?» «Вертухаи шутят», – мрачно прокомментировал я тупую шутку. «А у него третий год уже одна и та же шутка», – ответил давно сидящий Миша Хрузин. Конь откровенно наслаждался правом запрещать или разрешать. Выбор почти всегда был в пользу запрета. Правила внутреннего распорядка, к его явному наслаждению, были нарочно устроены так, чтобы его запреты были глумливо бессмысленными. Если случалось попросить его на полчаса продлить время работы телевизора, чтобы досмотреть до конца фильм или футбольный матч, то можно было быть почти уверенным, что ровно в 22:30 он, счастливо ухмыляясь, лично нажмёт кнопку, из коридора управляющую отключением телесигнала. Большую радость ему доставляло наблюдать, как по его требованию сидельцы снимали с батарей и кроватных спинок мокрые после стирки вещи, рассовывали их по пакетам. Если мы не успевали спрятать самодельные верёвки, то Конь-Омоновец торжественно их изымал и всерьёз грозил взысканиями. При этом он как бы проявлял понимание: мужики, ничего не поделаешь – правила; на время проверки всё уберете, потом снова развесите, но аккуратно. По окончании проверки из пакетов для мусора сплетались новые верёвки. Обязательные проверки проходили дважды в день, часто бывали внеплановые. В его смену чаще, чем в другие, проводился большой шмон. В отличие от малого ежедневного, большой, три-четыре раза в месяц, был устроен следующим образом. Арестанты собирали в сумки все свои личные вещи и книги. В особом помещении происходил скрупулёзный досмотр с составлением подробной, вплоть до перечня нижнего белья, описи. Пока несколько охранников шмонали одного зэка, остальные коротали время в тесном «трамвае». В это время в камере другие сотрудники переворачивали постели и простукивали стены, изучали содержимое тумбочек и холодильника. По окончании перед дверями камеры мы находили кучи вещей, которые Конь и его коллеги посчитали излишними или запрещёнными.
Другого офицера в одной из камер звали Дядя Паша. Не знаю, настоящее ли это имя. Дядя был младше половины заключённых, но прозвище ему шло. Сутулая фигура, усталое, немного болезненное лицо. Замкнутый и скучный. Вполне безвредный, в нём не чувствовалось угрозы. Подобно тому как Элвиса я представлял себе в костюме повара, на Дядю Пашу я мысленно примеривал серенькую байковую рубашку, старомодный пиджак в неброскую полоску и широкие брюки, заправленные в валенки. Наверное, так его воспринимал не я один, иначе откуда вторая кличка – Деревня? Была ещё и третья, трудно объяснимая, но на ней настаивал Давидыч, относившийся к Дяде Паше с симпатией, – King. Ни в облике, ни в служебном положении Дяди Паши ничто не вызывало такой ассоциации. Он производил впечатление человека, начисто лишённого амбиций. Звание майора, вероятно, было пределом его роста, он терпеливо дожидался пенсии. Поговаривали, что его брат служил в другом московском СИЗО. Фантазия вычерчивала унылую историю успеха двух деревенских братьев, нашедших во ФСИН единственно возможный социальный лифт. Моё воображение пасовало перед попыткой представить себе, есть ли у этих людей дети, насколько строги или нежны их отношения, что рассказывают они сыновьям и дочерям о своей работе? Один из старших офицеров, служивших в «кремлёвке» – я с ним встречался всего раз, никакая кличка к нему не прилипла, – был потомственным тюремщиком: его дед и отец были начальниками следственных изоляторов, а теперь он и сам дослужился до начальника. Разные бывают трудовые династии.
Ревнивый капитан получил прозвище из-за того, что неотступно сопровождал молодую и очень смазливую женщину-доктора. Не знаю, было ли это ухаживанием или их уже связывали более определённые узы. Так или иначе, Ревнивый капитан не отходил от своей пассии ни на шаг. Периодически он обводил окружающих грозным взглядом, как бы предупреждая, что в случае чего развязка будет мгновенной. Зэки находили в этом развлечение и, дразня ревнивца, кокетничали с красоткой. Он был немного ниже своей избранницы и начинал полнеть, поэтому комично втягивал живот и разводил плечи. Избранница принимала обожание со скучающим видом, но, кажется, ей льстили капитанский напор и страсть. Когда её не было рядом, капитан становился хамоватым и надменным. Я испытывал некоторые проблемы со здоровьем. Лекарства в камере держать не разрешалось; их, не всегда регулярно, приносили медработники. Когда тонкая рука с длинными, выкрашенными разноцветным лаком ногтями отмеривала мне порцию таблеток и подавала через окошко в двери, я физически ощущал на себе поток жгучей ненависти. Невозможно представить, что происходило с ним, когда врач занималась более молодыми и симпатичными арестантами. Была опасность, что однажды его хватит удар. Когда красотка-врач впервые принесла мне прописанные лекарства и я назвал свою фамилию, то услышал в ответ: знаю, вас тут все знают. И правда, благодаря большому резонансу, вызванному «Театральным делом», и широкой общественной поддержке, в том числе в прессе, я, как оказалось, вызывал интерес у женского медперсонала «кремлёвки».
Однажды в суде я резко высмеивал жуликоватых следователей и сравнивал их с вокзальными напёрсточниками. Поздним вечером меня привезли в СИЗО. Старшим смены охраны в тот день был Ревнивый капитан. Он приказал запереть меня в трамвае и дождаться его для проведения досмотра. Конвоировавшие меня охранники недопоняли и, чтобы ускорить дело, сами проверили мои вещи и одежду и доложили о готовности отправить меня в камеру. Капитан наорал на них и сказал, что будет досматривать меня лично. Что через час бессмысленного ожидания и проделал издевательски медленно и подробно, просматривая каждую страничку моих записей и документов, прощупывая носки и швы одежды, выворачивая карманы и заглядывая под стельки туфель. Эту малоприятную, по моим представлениям, процедуру он провёл с необъяснимым, сладострастным остервенением. Происходящее явно имело целью наказать меня. Уверен, что распоряжение через тюремных оперов прилетело после суда от Цахеса. Но в поведении Ревнивого капитана просвечивало и что-то дополнительно личное. Казалось, он наказывал меня за любопытство, которое проявила ко мне его скучающая подруга. Карикатурная глупость органично сочеталась в Ревнивом капитане со злобой и мстительностью.
В очередь с подругой капитана таблетки, градусники и тонометры арестантам приносили ещё два доктора, женщины лет тридцати пяти. Одна, миниатюрная и остролицая, носила погоны майора и звалась Майор Мышка. Вторая, статная и румяная, скрывала своё воинское звание под белым халатом, никакая кличка к ней не прилипла. Держались обе спокойно и приветливо, говорили негромко и вежливо, проявляли слабый интерес и даже, казалось, сочувствие к недугам и жалобам заключённых. Они отличались от окружавших их угрюмых и раздражённых людей и плохо вписывались в тюремный антураж, будто оказались там по ошибке. Они напоминали лейтенантских жён, вынужденных упаковать на дно чемоданов филфаковские дипломы и уехать за своими избранниками в дальние гарнизоны. Сорок лет назад я, тогда солдат срочной службы, встречал таких в библиотеках и клубах дальневосточного посёлка Пограничный.
Временами в камере появлялся пучеглазый молодой подполковник в удивительной фуражке – огромной и с высоченной тульёй. В годы моего детства в журнале «Крокодил» так изображали греческих чёрных полковников. Этот был пока подполковником, но, учитывая молодость и непробиваемый иммунитет к здравому смыслу, его, я уверен, ждут большие успехи по службе. Чёрный полковник походил на героя ситкома. В «кремлёвском централе» он был начальником режима, но не умел объяснить смысл своих режимных мероприятий. Выслушав вопросы, доводы или протесты арестантов, он, мучительно поморщив низкий лоб под козырьком высокой фуражки, всегда давал один и тот же ответ – нехитрый, но торжественный: «Не положено!»
Однажды на утреннюю проверку стражи явились в усиленном боевом составе: Конь, Чёрный полковник, Ревнивый капитан, с ними двое или трое охранников. Поспешно, но придирчиво осмотрели камеру, потребовали убрать какие-то вещи с кроватей и со стола, сообщили, что идёт внешняя проверка. Следом явился начальник «кремлёвки» Иван Павлович Прокопенко, с ним гость в криво сидящем синем мундире. Неопрятный, краснорожий человек явно мучился похмельем. Не здороваясь, он прошёл от двери к окну, зачем-то подергал решётку, без интереса поозирался по сторонам и, не задав ни одного вопроса, вышел вон. За ним последовала вся свита. Это был прокурор, призванный надзирать за соблюдением законности в системе ФСИН. Судя по состоявшемуся блиц-визиту, угроза законности виделась прокурору в арестантских портках на спинках кроватей да в недостаточно крепкой решётке на окне. Он не удосужился расспросить заключённых об условиях содержания и качестве кухни, о работе тюремного магазина и почты или выслушать пожелания и жалобы.
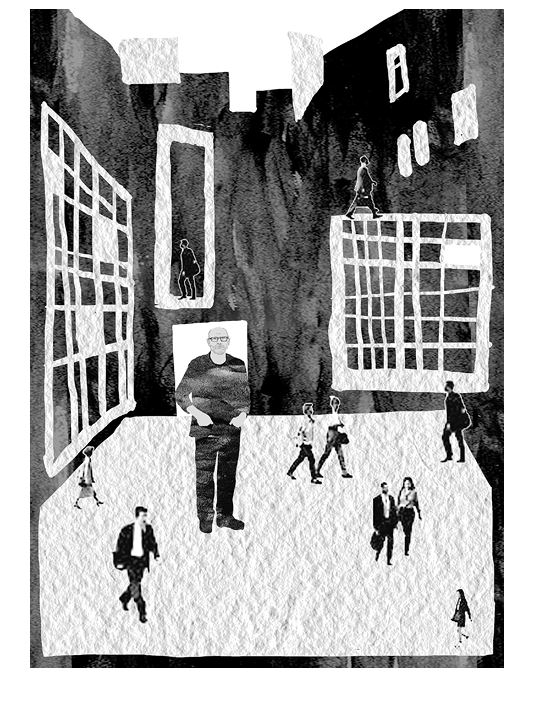
В конце октября неожиданно прозвучало: Малобродский, с вещами на выход. Через полчаса, собрав вещи и книги, я попрощался с Мишей и Димой. Сопровождаемый Элвисом, сел в зарешёченный микроавтобус. На вопросы, что это значит и куда мы направляемся, Элвис не ответил. Сказал лишь, что всё будет хорошо. Казалось, он был рад за меня. Путь был недолгим. Не покидая огромного тюремного двора, мы проехали несколько сот метров и оказались в соседнем СИЗО 77/1. Много страдающих от жёсткой изоляции «кремлёвского централа» людей мечтают о таком переводе. В самом деле, режим здесь менее строгий, нравы посвободнее. Но первое впечатление было довольно тягостным. После утомительного ожидания в заплёванном помещении сборки и демонстративно бесцеремонного обыска большинство вещей и книг отправились на склад. В грязном медицинском кабинете угрюмый доктор осмотрел меня формально и неприязненно. Потом был долгий под окрики грубой охраны путь по замысловатым подземным переходам и лестничным маршам старой «Матросски». Было сыро, дурно пахло, дорогой встретилась наглая крыса. Меня поместили в один из спецблоков, а именно в шестой корпус. Бытовые условия здесь были сопоставимы с «кремлёвкой». Четырёхместные камеры, чуть более тесные, давно не видели ремонта. Зато – о чудо – в камере был душ!
В одной из камер шестого корпуса традиционно содержался вор. Когда отправляли по этапу или отпускали одного, его вскоре сменял следующий. Вентиляционные шахты и канализационные трубы служили каналами постоянного обмена информацией. Сведения о каждом новом арестанте (имя, возраст, статья) немедленно становились известны, велись записи движения людей. Ежевечерне между камерами, а также и соседним общим корпусом передавались и принимались новости, собранные по судам, сборкам, автозакам. Выкраивались ритуальные воровские речовки. Насельники со стажем вспоминали времена, когда по камерам водились мобильные телефоны и изготавливалась брага. Такой хрестоматийный тюремный порядок распадался буквально на моих глазах. Некогда воровской продол стремительно краснел. Через пару недель после моего перевода из соседней камеры увезли очередного вора, и никто ему не наследовал. Стало тише и спокойнее. Меня, чуждого уголовной романтики, это очень устраивало. На прогулках продолжали добродушно перекрикиваться через стены бетонных двориков. В СИЗО 99/1 подобное было невозможно, там на прогулках арестантов глушила очень громкая музыка, охрана жёстко и однозначно пресекала любое межкамерное общение.
Первые несколько дней я провёл в плохо обустроенной камере в компании обаятельного армянина, вора и мошенника, и ещё двоих, проводивших время в непрерывных дебатах о преимуществах ислама перед христианством и наоборот. В это время на воле среди друзей произошло большое волнение. Следователи и тюремное начальство посчитали излишним сообщать родственникам и адвокатам о переводе – и Таня меня потеряла. Понадобились усилия многих людей, чтобы через день добиться у руководства ФСИН информации о моём местонахождении. Первыми, как в своё время в ИВС, меня посетили наблюдатели из общественной комиссии – Когершын и Иван Мельников. После их визита мне удалось получить со склада свои вещи, а в камере появились плохонький холодильник и неработающий – но попытка засчитывается – телевизор. На следующий день пришли адвокаты, и я получил письмо и передачу от Тани. Впечатлённые большим движением вокруг моей персоны начальники и охранники заговорили вежливо и напряжённо. Откровенное лицемерие, с которым мне позже ещё не раз пришлось столкнуться в тюрьме, озадачивало и ставило в двусмысленное положение по отношению к сокамерникам. Впрочем, мне всегда удавалось быстро снимать барьер и устанавливать уместную степень доверия с соседями. Скоро меня перевели в камеру 616, обустроенную и хорошо обжитую, заселённую, по мнению начальников, более близкими мне по опыту, образованию и инкриминируемым статьям людьми. В принципе, начальники не ошиблись.
Тюрьма сводит людей поневоле, прочно и надолго запирает их в одном замкнутом, тесном пространстве, приговаривает к общежитию. Мне не довелось подолгу находиться в больших, на несколько десятков человек, к тому же перенаселённых камерах. Не пришлось долго соседствовать с явными уголовниками или закоренелыми злодеями. Разве что сборки и изматывающие, долгие поездки в автозаках между судами и изоляторами порой собирали очень пёстрый и разный люд: плечом к плечу сидели наркоманы и политики, разбойники и бизнесмены, убийцы и бывшие чиновники. Но даже в этих случаях действовал какой-то общий кодекс поведения, основанный на уважении того факта, что все мы очень разные. Заведомо никто не был лучше или хуже другого. Я ни разу не встретил агрессивной реакции, скажем, на просьбу курить реже и по очереди или не орать громко, если болела голова или хотелось почитать; было принято делиться водой, сигаретами, конфетами. Если кого-то переполняли эмоции после суда, ему давали возможность выговориться, при этом никогда не выспрашивали, не лезли в душу.
По большей части моими соседями в разных камерах были люди адекватные, выдержанные, неагрессивные. И всё же разные привычки и повадки, тембры голосов и манера речи, запахи, храп, шарканье, смех и так далее – всё требует привыкания и принятия. Большинство учится этому быстро и неизбежно – иначе месяцы, а для кого-то и годы заключения грозят обратиться в ад. Чистюли и неряхи, любители телесериалов и спортивных передач, новостных и музыкальных каналов, оптимисты и пессимисты, атеисты и набожные, националисты и космополиты, сталинисты и антисоветчики, сторонники уголовного устава и те, кто подчёркнуто противопоставлял себя блатному миру, вынуждены находить общий мирный язык, постоянно и непрерывно учитывать присутствие друг друга и уважать его. Конечно, это не исключает жарких порой дискуссий и не обязывает придерживаться общей точки зрения. В обеих камерах «кремлёвского централа» соседи с большей или меньшей степенью убеждённости соглашались с моими оппозиционными настроениями. Следственный беспредел и беспринципность судов они естественным образом увязывали с общей политической ситуацией. Корни наших общих и своих частных бед прослеживали в истории страны, которую обычно схожим образом истолковывали.
Иначе обстояло в более разнородном и демократичном кругу шестого корпуса «Матросской тишины».
Люди, о которых я собираюсь рассказать, не посвящены в мои «литературные» планы, и я не уверен, что они стремятся к публичности. Поэтому я дал им полностью или частично вымышленные имена.
Валерий Рэмбович Подгорный, персонаж удивительный и для меня непостижимый. Мой ровесник, муж и отец семейства, он к моменту нашего знакомства находился под стражей уже три с половиной года. Топ-менеджер крупного научно-технологического предприятия до «Матросской тишины» успел посидеть в нескольких СИЗО Москвы и Подмосковья, где лично познакомился с фигурантами многих громких дел. Рэмбович обвинялся сразу по двум уголовным делам. По одному он был уже осуждён и дожидался решения апелляционного суда. По второму ещё продолжалось следствие. Опытнейший зэк и при этом хорошо образованный, воспитанный человек, он был идеально приспособлен к тюремной жизни. Понимал и сам выстраивал законы общения как внутри камеры, так и с тюремным начальством и надзирателями. Эти законы были чужды уголовных ухваток, строились на доброжелательности и взаимном уважении. Был Рэмбович основателен и неспешен. Рационален в движениях и словах, обычно сдержан в проявлениях чувств и убеждений. Быт его, а следовательно, и наш, его соседей, был налажен безукоризненно. В прошлом выпускник престижного технического вуза, он был специалистом по компоновке космических аппаратов. Его высокая квалификация проявилась, в частности, в том, что наш очень маленький холодильник вмещал какое-то нереально огромное количество продуктов, которые хранились там в идеальном порядке. Из электрочайника и пары пластиковых ёмкостей он собрал подобие микроволновки. Из другого чайника удалил термостат и в полученной таким образом электрокастрюле варил борщи и супы. Придерживался строгого столового распорядка и был ненавязчиво хлебосолен. Он не делал секрета из своей истории, но подробностями делился скупо. Несколько изумительных перлов из его уголовного дела я помню до сих пор. Например, отсутствие в деле убедительных улик гособвинение интерпретировало как доказательство осознанной и тщательной подготовки преступления. Удивлял и сам Валерий. Умный трезвомыслящий человек, он откровенно ностальгировал по временам и нравам развитого социализма. Кажется, он использовал именно эти, введённые в оборот партийными съездами определения эпохи, которую я помню как глухой и беспросветный застой. В то же время его личное благополучие и коммерческие успехи предприятия, которым он руководил, бесспорно были обязаны временам либерализации отношений собственности и свободы предпринимательства. Уж не знаю, были ли за ним какие-то уголовные прегрешения или нет, но в своём деле и в аресте он винил, не называя их прямо, конкурентов, использовавших ангажированное следствие. При этом он одобрительно отзывался о правоохранительных и силовых структурах, особенно о ФСБ. К врагам родины и президента Путина Валерий Рэмбович был нетерпим, хоть и старался сдерживаться. Нравом был добродушен и уравновешен, лишь изредка – с кем не бывает – срывался и позволял себе эмоциональные высказывания. Поводы для этих мелких срывов были удивительными и неожиданными. Памятуя об успехе, с которым я пропагандировал среди прежних соседей книжку Венечки Ерофеева «Москва – Петушки», я дал почитать её Вове-могиле и Валерию. Реакция обоих была нестандартной. Если Вова просто остался равнодушен, то Рэмбович негодовал: это ложь, будто в советское время было повальное пьянство. Я попытался объяснить, что к художественному тексту нужно подходить с иной меркой, лепетал что-то про поэтику, образную и жанровую природу, про роман в стихах и поэмы в прозе, про традицию романа-путешествия… – все мои доводы были ничтожны, а Рэмбович непреклонен: «Где он такое видел? Клеветник!» Я взялся рассказывать, где такое видел я в благословенные семидесятые-восьмидесятые годы. Вспоминал завсегдатаев богемных домов актёров, писателей и прочих архитекторов; и работяг, хлеставших технический спирт по углам заводских складов и подсобок; и заселённые сплошь бабами (мужики – кто спился, кто помер, кто сел) тверские деревни; и запущенные огороды никогда не просыхающих стариков в Приморье; и дикое пьянство коренного населения в Горном Алтае; и ругань в очередях за водкой по талонам… Говорил про душную атмосферу государственной лжи и подавления личной свободы, приводил в пример фильмы, пел частушки соответствующего содержания – в общем, неподобающе увлёкся. За что и был наказан: мой обиженный за отечество собеседник со сдержанным гневом попросил меня не порочить родину и – неожиданно – не отзываться дурно о президенте, о котором, между прочим, не было сказано ни слова. Затем он вдруг так же внезапно успокоился и перешёл к традиционно неспешному и добродушному общению на нейтральные темы. Я до сих пор гадаю: что это было? Временное ли затмение или, наоборот, прорвавшаяся наружу искренняя боль, так сказать, крик души, а может, и осознанное выступление на камеру, торчавшую в углу под потолком?
Не так мирно, как со мной, развивались отношения Рэмбовича с генералом Николаем Васильевичем Чесноковым. Рядом с генералом было тяжело. Высокий и некогда крепкий, а сейчас страдающий гипертонией мужчина вздыхал, стонал и жаловался по-бабьи. Попытки приободрить и развеселить его приводили обычно к обратному эффекту. Молодого и принципиального хулигана Вову-могилу возмущала бытовая беспомощность и нечистоплотность генерала, а пуще всего – его непоследовательная гражданская позиция. «Вот если вы, Аркадьич, – говорил мне уважительно Вова, – всегда и однозначно топили против власти, то я, даже если с этим и не согласен, принимаю, имеете право. Но генерал же сам – власть. Значит, пока был при кормушке, всё устраивало, а теперь вдруг, когда хвост прижали, прозрел и стал оппозиционером». Николай Васильевич не только дослужился до высокого воинского звания, но и, выйдя в отставку, занял значительную административную должность в крупном российском регионе. Под следствие он угодил за относительно мелкую взятку, принятую, что называется, борзыми щенками – подарок местного бизнесмена в обмен на поддержку его проекта. По его версии, следствие добивалось от него показаний на губернатора взамен прекращения дела. На чём именно базировалась взаимная неприязнь Рэмбовича и генерала, сказать трудно. Но только, до поры спрятанная, она вдруг начала принимать явные и всё более агрессивные формы. В феврале генерала перевели в другую камеру. Не знаю, сам ли он просил об этом или это была плановая ротация. Тюремное начальство любит временами перетасовывать сокамерников, чтобы не привыкали и находились в напряжении. По закону для перевода должны быть особые и явные причины, но в этой системе решения диктует не закон, а целесообразность. Забавно-злорадное обстоятельство заключается в том, что две недели спустя вызвали с вещами и Рэмбовича. Как стало известно тем же вечером, перевели его в камеру к генералу. По доходившим до нас слухам, они продолжали глухо недолюбливать друг друга. Не знаю, что сейчас с обоими. Надеюсь, что немолодые и неглупые люди разошлись миром и смогли сохранить силы души и тела, необходимые для достойного выживания в системе исполнения наказаний.
На место генерала к нам в камеру из «Лефортово» перевели Андрея Сладкова, высокопоставленного менеджера очень известной компании. Мне неизвестны подробности его истории. Сладков уверял, что и сам не вполне понимает причин своего задержания. Почти год он провёл под стражей по обвинению в мошенничестве, и за всё время его ни разу не посетил следователь. Это только на первый взгляд кажется неправдоподобным. Но поскольку я и сам находился в роли заложника и не мог добиться конкретизации обвинений в свой адрес, то легко поверил новому соседу. Андрей запомнился тем, что по памяти записывал сказки, известные и новые, прочитанные уже в тюрьме; расспрашивал меня, выискивая новые сюжеты. Каждый день исписанные листочки он вкладывал в почтовый конверт, на котором указывал один и тот же адрес. Так он рассказывал сказки своему пятилетнему сыну, по которому очень скучал.
На шконку Рэмбовича заехал приветливый, по-буддистски спокойный бурят Намсарай Дамбаев, для простоты представившийся Андреем. Приговор по обвинению в шпионаже уже вступил в силу, и прошла большая часть срока довольно сурового наказания. Намсарая доставили из Забайкалья в Москву для участия в кассационном заседании Верховного суда и, казалось, забыли о нём – больше месяца он просто дожидался назначения даты судебного заседания. По мнению следствия и суда, шпионил он в пользу Китая. Сам же «шпион» рассказал такую историю. Выучив на свою беду в университете китайский язык и недолго поработав в перестроечные годы переводчиком, он с приятелем затеял собственный бизнес по поставке российским промышленным предприятиям нестандартного оборудования. Бизнес был скромным, но обеспечивал семью. С одним из крупных предприятий в Забайкалье наладились регулярные деловые связи, которыми наш герой дорожил. Предприятие развивало совместный проект с китайскими партнёрами. И однажды, зная об образовании Намсарая, предложило ему перевести какую-то техническую документацию. Вскоре на предприятии начался передел собственности, одна из заинтересованных сторон привлекла в свои ряды ФСБ. Так возникло дело, в котором нашлось место и моему новому соседу, несмотря на его заверения, что всю переведённую им документацию можно легко найти в открытых источниках.
Интерес к уникальным машинам и промышленному оборудованию сблизил «шпиона» с Вовой-могилой. Обаятельный и эрудированный, Вова был старожилом и домовым камеры 616. Вежливый, хорошо воспитанный молодой человек отличался маниакальной чистоплотностью и был неутомимым спортсменом. Он трогательно рассматривал вечерами фотографии двух своих ангелоподобных дочек. Кличка чрезвычайно не шла к нему, но приклеилась крепко. Её появлением Вова, обвинённый в хулиганстве, был обязан участием в массовой драке на кладбище. Придумал кличку вор, с которым Вова одно время делил камеру. Техника, включая военную, была подлинной страстью Вовы. Он знал не просто сотни моделей машин, механизмов, видов оружия, но историю модификаций каждого из них, имена конструкторов и дизайнеров. Если я изредка вынуждал соседей поскучать во время какой-нибудь интересной только мне передаче на канале «Культура», то Вова ежедневно ловил посвящённые технике программы на канале «Звезда», само существование которого оказалось для меня новостью.
Доступность арестантам тех или иных телевизионных программ определяет выбор тюремной администрации. Критерии, по-видимому, достаточно субъективны. В разных СИЗО, в которых мне довелось смотреть телевизор, меню незначительно отличалось. Везде неизменно присутствовали основные федеральные каналы. По счастью, у меня были беруши, книжки и маска для глаз. Ещё больше удивлял выбор радиостанций, которые глушили нас на прогулках задорными, но несмешными шутками и пошлой попсой. Потребность в информации удовлетворялась чтением газет. Подобно тому как, забывая о компьютерной клавиатуре, современные арестанты восстанавливают навык владения шариковой ручкой, на смену привычке получать новости из электронных ресурсов пришлось вернуться к чтению газет в бумажной версии. Газеты я выписывал в большом количестве.
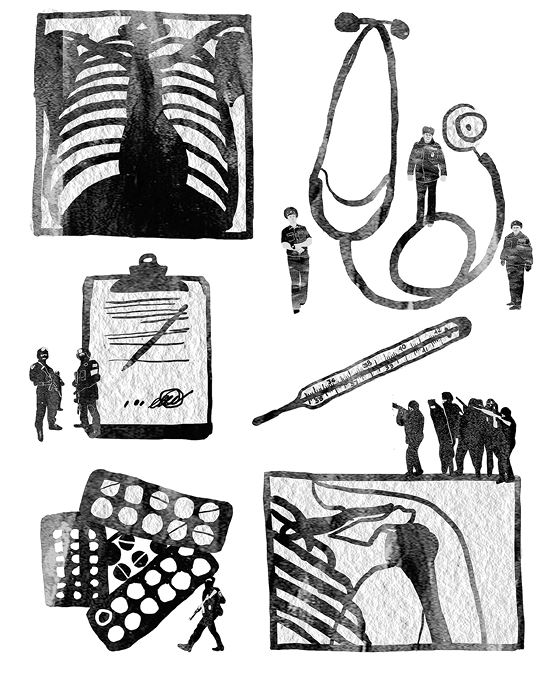
Арестант ААМ читал газету. В газете кроме прочего был напечатан обзор достижений мировой медицинской науки и передовой врачебной практики. Сообщалось о том, что некому счастливому пациенту врачи успешно вживили его собственное сердце; сердце это лечили и чинили отдельно от его обладателя, жизнь которого между тем поддерживал заменявший сердце искусственный аппарат. Или, например, сообщалось об успехах в области генетики и моделирования различных тканей и органов: утверждалось, что в близкой перспективе появится возможность печатания 3D-принтером относительно несложных структур, типа кожи или хрящевых тканей, чтобы латать разные прорехи в организмах больных людей. И это лишь начало: какой-то лабораторной мышке уже вживили напечатанный таким образом яичник, и она дала потомство. Много еще чудесного, поражающего воображение и вызывающего гордость за человеческий род, сообщала газетная статья.
У арестанта ААМ сильно болело плечо. Артроз, проявившийся год назад ещё дома, развился за несколько месяцев пребывания в СИЗО и причинял серьёзные неудобства. По просьбе арестанта его осмотрел местный врач. Врач был терапевтом общей практики, и ему было очень скучно; впрочем, он помог ААМ анальгином. Примерно месяц велись переговоры о том, чтобы жене арестанта разрешили передать сделанный перед арестом МРТ-снимок арестантова плеча. Затем ещё месяц этот снимок вместе с заключением гражданских врачей пылился в медсанчасти и наконец был безвозвратно утерян. После чего тюремный эскулап объявил, что необходим специалист, но как именно называется специальность необходимого врача, назвать затруднился – не знал, а может быть, просто не хотел дать слабину и нарушить обет полного безразличия и абсолютного невнимания. Характер у арестанта ААМ был скверный и весьма занудливый. Он не ленился регулярно писать жалобы и делал вид, что всерьёз рассчитывает на интерес тюремных начальников и докторов к своему ничтожному здоровью. Делал он это исключительно в силу своей зловредности, ибо как всякий зрелый человек, освоившийся в тамошней реальности, должен был сознавать тщету своих поползновений. Родственники и адвокаты этого нездорового арестанта тоже не унимались: обращались к общественности, та взывала к милосердию; ситуация сделалась публичной. В общем, стало понятно: придётся что-то предпринимать.
В одно прекрасное, как принято выражаться, утро арестант под нестрогим конвоем был препровождён… нет, не в медицинский кабинет, а в особое помещение, именуемое в тюремном просторечии сборкой. Здесь обычно обыскивали заключённых, перед тем как отправить их в суд, на допрос, встречу с адвокатом или свидание с родственниками. Последнее относилось к тем счастливцам, которым свидания были разрешены. Перед больным возник молодой человек в сильно несвежем медицинском халате. Он, как и все его коллеги, вынужденные работать в тюрьме, тоже скучал. Но как-то особенно выразительно скучал: недоумение, досада и растерянность одновременно были написаны на его плохо выбритом лице. Помолчав немного, он неуверенно сообщил: я хирург. Ещё несколько секунд врач и пациент без особого интереса смотрели друг на друга. Невдалеке, у двери, безучастно зевал вертухай. «Может, мне раздеться?» – наконец поинтересовался больной. «Да, снимите рубашку», – казалось, обрадовался хирург. Арестант снял, было прохладно. Молчание продолжалось. Прервал его снова арестант подробным рассказом о предыстории болезни, утерянном снимке, нынешнем своём состоянии; показал здоровой рукой, где именно болит… Доктор, не говоря ни слова, взял его за кисть больной руки и приподнял до горизонтального положения, подвигал в разные стороны, отпустил и снова пригорюнился. Затем попросил повернуться к нему спиной, осторожно потрогал плечи больного. Ещё ненадолго задумался, велел одеваться, а затем неуверенно и устало сообщил: «Ну что же, сколиоза у вас нет». Вновь одетый арестант начал согреваться, неожиданная новость порадовала его, и он поинтересовался у хирурга назначениями и рекомендациями. Таковых у специалиста не было. Через несколько дней адвокат арестанта получила ответ из надзорного ведомства, куда она обращалась с жалобой. В письме сообщалось, что в результате проведённой проверки удалось установить, что к её подзащитному был вызван специалист и оказал необходимую и достаточную медицинскую помощь.
Неблагодарный ААМ держал речь перед небольшой по меркам эфирного телевидения аудиторией. По меркам же Мосгорсуда публики было довольно много: родные, друзья, коллеги арестанта, правозащитники, адвокаты, а также другие обвиняемые по тому же нелепому делу, те, кто, по мнению следствия, представлял меньшую, чем ААМ, угрозу общественной безопасности и потому содержался под домашним арестом. А главное, в зале было много-много журналистов. ААМ не был доставлен в зал суда и принимал участие в заседании посредством телевизионного моста. Технические достижения, обеспечивавшие Федеральной системе исполнения наказаний коммуникацию с судом, несколько уступали достижениям мировой медицинской науки, о которых сообщали газеты. Изображение было мутным и слегка подрагивало, качество звука в сочетании с профессиональным бормотанием судьи и прокуроров не оставляло шанса распознать человеческую речь. Впрочем, когда говорили адвокаты, а также друзья ААМ, пришедшие в суд, чтобы поручиться за него, то качество звука загадочным образом улучшалось. Знаменитая артистка Лия Ахеджакова попросила допустить её к процессу в качестве общественного защитника ААМ, но получила отказ. Из выступлений поручителей и аргументированных заявлений адвокатов следовало, что ААМ, неплохой в целом человек – не злонамеренный, мирный, дисциплинированный и законопослушный, – заинтересован в добросовестном, непредвзятом расследовании. «Значит, пусть он сидит себе дома с браслетом на ноге и лечит свой артроз и другие недуги», – говорили они. Но следователи и наблюдавшие за соблюдением законности в суде прокуроры ни в какую не соглашались отпустить арестанта. «С учётом личности обвиняемого!» – значительно подчёркивали напуганные этой зловещей личностью люди в синих мундирах. Вот тут-то ААМ и распоясался. Не станем повторять всего, что наговорил он о сыщиках, стражниках и жрецах Фемиды; кроме прочего, он громогласно не соглашался с выводами надзорного органа и порочил тюремную медицину – журналистам было о чём писать в тот день.
Через час после окончания заседания арестант ААМ по приказу тюремного начальства, а может быть, начальства тюремного начальства совершил визит в антимир; подобно персонажам Л. Кэрролла, нырнувшим в кроличью нору, ААМ в сопровождении задававшего темп конвоя бодро преодолевал многочисленные повороты, лестничные марши, подземные ходы. В конце пути изумлённому взору путешественников предстало подлинное чудо: просторный, чистый, обставленный мебелью и оснащённый медицинским оборудованием врачебный кабинет. Несколько благообразных людей, мужчин и женщин, в чистых белых халатах, сдержанно, но приветливо улыбались арестанту. Эти чудесные люди расспросили и осмотрели его, обследовали с помощью нескольких приборов. В результате обследования вскрылись ещё какие-то недуги, на которые арестант и не жаловался, например, была воспалена и увеличена левая почка. Были сделаны назначения и выдана небольшая жменя таблеток. Обаятельная женщина, представившаяся главным врачом, пообещала, что всё будет хорошо и что через день обследование и наблюдение специалистов продолжится. До сих пор неизвестно, был ли это бред или явь. Но ни через день, ни через два, никогда позднее арестанта больше к врачу не водили. Ни в одном из эпикризов, которые СИЗО предоставляло затем судьям, не было информации о нездоровой почке, как и о поражённом артрозом суставе или повышенном давлении. С другой стороны, вполне осязаемая жменя таблеток была выпита. А много позже уже в гражданской, вольной больнице подтвердили диагноз и успешно вылечили левую почку бывшего арестанта.
Продолжение этой тюремно-медицинской повести последовало через пять дней после того памятного судебного заседания и последовавшего за ним консилиума (если это был не мираж). Была пятница. В семь часов утра арестанта вывели из камеры. Обыскав и выдав положенную в таких случаях коробку с сухим пайком «для специального контингента», погрузили в автозак и повезли на Петровку, 38 для проведения допроса. Примерно пять часов продолжалась экскурсия по различным следственным изоляторам и судам красавицы-столицы нашей необъятной родины. Вводили и выводили людей, хмурых и весёлых, молодых и пожилых, курящих и некурящих… Наконец и ААМ поднялся с жёсткой скамьи, просунул руки в наручники и был препровождён в очень тесную полутёмную комнатёнку-стакан дожидаться начала следственных действий. Ещё через пару часов в комнате попросторнее и с окном его встретили адвокаты и следователи. Часа четыре длился бессодержательный и бессмысленный допрос. Стоит заметить, что в других, содержательных и осмысленных, ААМ участвовать не доводилось. Далее всё проследовало в обратном порядке: стакан, автозак, обыск. И вот, в начале двенадцатого часа ночи «усталые, но довольные ребята возвратились домой». Ещё несколько шагов по коридору – и можно будет взобраться на неудобную, с комковатым тощим матрасом, но столь желанную в эту минуту кровать. Однако старший смены охраны скомандовал: «Через полчаса с вещами на выход». Обычно это означает перевод в другую камеру или в другую тюрьму. Так как следствие в отношении ААМ ещё шло, а точнее говоря, нервно топталось в безнадёжном тупике, отправка на этап была исключена. Впрочем, о том, куда именно переводят заключённого, никогда не сообщается, это становится ясным только по прибытии на новое место. Уже изрядно подкованный в отношении законов, инструкций и правил содержания в СИЗО, известный повышенной упёртостью арестант тут же объявил забастовку с требованием предоставить ему положенные восемь часов непрерывного сна. Вывести его можно было только насильно. «Старшой» растерялся, стал звонить ДПНСИ, тот ещё кому-то… через полчаса переговоров арестанта оставили в покое.
Утром следующего дня под крики сокамерников «верните нам Аркадича» Аркадич со всем своим скарбом – несколько сумок с книгами, барахлом и снедью, полученной в посылках и передачах, – покинул обжитую, вычищенную им и его товарищами камеру, в которой был налажен быт и заведён минимум необходимых удобств, включая электрочайник, холодильник и телевизор. В сопровождении конвоя он отправился петлять по запутанным переходам, коридорам, лестничным маршам и подземным тоннелям старинной тюрьмы. В конце квеста открылась дверь нечистой прокуренной камеры; в ней были лишь стол, скамья и три одноярусные кровати. На двух кроватях покоились люди – толстый и тонкий, оба примерно пятидесяти лет. Как оказалось, это была тюремная больница; начальники решили таким образом подправить здоровье зловредному арестанту. Правда, в течение трёх следующих дней арестант ни разу не увидел ни одного медицинского работника. Просьбы вывести его на осмотр к врачу оставались без внимания. Принесённая арестантом еда, которую он и его новые соседи не успели съесть в первый день, протухла и была выброшена.
По счастью, среди вещей арестанта нашлись тряпки и моющие средства. Он принялся за уборку. Справившись с первым приступом удивления, к уборке подключились соседи. А затем, под впечатлением ими же наведённой чистоты, даже стали меньше курить и исключительно возле высоко расположенной форточки, для чего приходилось взбираться ногами на спинку кровати. Ещё одним обстоятельством, отвлёкшим болезных зэков от курева, оказались несколько десятков книг, принесённых ААМ. Одуревшие от безделья и скуки люди принялись с интересом читать. Остаётся загадкой, почему они до сих пор не воспользовались на удивление неплохой тюремной библиотекой. Может, им просто не пришло это в голову, а может, не хватило настойчивости, ведь в СИЗО по любому поводу – получение библиотечных книг не исключение – нужно было написать заявление, которое непременно несколько раз будет потеряно. А получать книги с воли через «Амазон» не у всех есть возможности и деньги, часто попросту не хватает охоты.

Толстый сосед был неопрятной и мутной личностью с хитрыми глазками и хамоватыми повадками. Он строил из себя всезнайку и скептика, эдакого эксперта по всем вопросам. Был навязчиво разговорчив, давал прогнозы и советы, о которых его не спрашивали. О себе и своём деле он сообщал что-то столь же многозначительное, сколь невнятное. Толстый был запоминающимся персонажем, но, как ни странно, мне нечего рассказать о нём.
Тонкий был вором из Ростова-на-Дону. Высокий, поджарый, в юности легкоатлет. В прошлом – несколько ходок, начиная с малолетки; сроки относительно небольшие. Несколько лет назад женился, усыновил двоих детей жены; родили третьего. На стене у изголовья шконки был прикреплён детский рисунок и печатными буквами писанное трогательное послание. Пытался завязать. Впервые в жизни устроился, впрочем ненадолго, работать на завод. В Москве, спьяну и по глупости, без цели и необходимости, совершил квартирную кражу в спальном районе – совсем немного денег и мобильный телефон. По телефону сразу позвонил и был задержан в тот же день. Повинился и полностью возместил ущерб. Получил два или три, не помню, года. В больницу попал из-за сломанной в тюремной драке челюсти. Пару месяцев провалялся, не получая никакого лечения. Челюсть кое-как срослась сама. Драка в камере произошла вскоре после заседания кассационного суда, принявшего решение вернуть дело в суд первой инстанции для пересмотра приговора на более мягкий с учётом небольшого и полностью возмещённого ущерба, раскаяния и трёх малолетних иждивенцев. Так, во всяком случае, Тонкий понял. Но ни протокол заседания, ни постановление суда, вопреки закону, он не получил. Назначенный адвокат ни разу не явился, следователи также. Тюремное начальство объяснять ничего не считало нужным, да, вероятно, и не понимало, что происходит. Покалеченный, нелепый человек просто третий месяц лежал в тюремной больнице, не имея представления о своих перспективах, казалось, всеми забытый.
У больничной камеры есть несомненные преимущества перед общей. Во-первых, немного соседей и у каждого своя кровать. В большой общей камере, где до больницы сидел Тонкий, на двадцать шконок приходилось тридцать человек заключённых. Ещё одно преимущество, особенно ценимое бедолагами, которых некому поддержать с воли, – это еда, немного лучшая, чем обычная баланда. В этих «лучших условиях» Тонкий тупо ждал, когда его судьба разрешится как-то сама собой.
В больницу я попал в выходные. Письма, написанные мной в тот же день, некому было забрать и отправить. В понедельник их задержала цензура. Обычно критика и даже ругань в адрес следователей и судей проходила без помех. Но в тех письмах критиковалось СИЗО, и фсиновский цензор не мог допустить огласки. Я писал об отвратительных условиях тюремной больницы, о том, что меня перевели туда с целью проучить, а отнюдь не врачевать мои недуги.
Таня и адвокаты снова потеряли меня и снова забили тревогу. В больнице меня первой отыскала Ева Меркачёва. Наше знакомство началось полгода назад с недоразумения. После визита в «кремлёвский централ» Ева опубликовала в газете заметку, в которой с симпатией описывала обитателей нашей камеры: Пушкарёва, Давидыча, Костю Козловского и меня. Интонация заметки полностью нивелировала мою проблему и искажала моё к ней отношение. Из добрых, но поверхностных соображений автор призывала уважить возраст и нежное воспитание и пожалеть меня. Меня же тяготили не условия содержания, а нанесённое мне несправедливым подозрением оскорбление и очевидно заказной характер дела. Я ответил письмом, в котором, в частности, настаивал: «У меня иной, отличный от Вашего, взгляд на то, что действительно важно… Меня в ничтожной степени интересует быт. И ещё меньше – проблема невкусной капусты и перловки. В действительности я хочу транслировать на волю, что я здоров телом и твёрд духом; что бесконечно благодарен всем, кто поддерживает меня и мою жену; что мои новые товарищи, с которыми меня познакомила тюрьма, – умные интеллигентные люди, сумевшие наладить здесь рациональный и по-своему комфортный быт, их тактичная поддержка помогает мне достойно переживать заточение. И, главное, я непоколебимо уверен в своей невиновности и отрицаю нелепое и ложное обвинение. Я возмущён, что Вы выставляете нас с женой какими-то казанскими сиротами. Мы не просим ничьей жалости. Наши финансовые обстоятельства касаются только нас, выносить их на общее обозрение без нашего разрешения дурно. Это оскорбительно и по отношению к моей жене, и по отношению к нашим близким и друзьям, поддерживающим нас в трудную пору. Наконец, из Вашей заметки следует, будто я смиряюсь с тем, что буду сидеть. Это не так. Из того, что обвинение ложное и дикое, что прокуратура манкирует своей прямой обязанностью надзирать за соблюдением законности, из того, что суд глухой и предвзятый, – из этого вовсе не следует, что я смиряюсь перед лицом глупости и несправедливости. Я не собираюсь сидеть. Я буду бороться и верю, что здравый смысл победит». Через пару месяцев, в следующий её визит мы объяснились и примирились.
К членам ОНК в тюрьме отношение разное и часто недоверчивое. Как и на воле, многие спорят об эффективности этой структуры, о мотивации членов комиссии и степени их ангажированности. Единого мнения нет. Находящиеся в постоянном нервном напряжении, разуверившиеся в суде и уверенные в подлости следствия люди относятся к общественникам часто с раздражением, иной раз откровенно злобно. Мне, получавшему реальную поддержку, часто приходилось вступаться за них. Так совпало, что накануне эффектного появления Евы в нашей больничной камере я довольно резко прервал самоуверенные и оскорбительные разглагольствования Толстого о том, что общественники руководствуются – уж он-то знает – исключительно соображениями корысти и карьеры, а отнюдь не блага арестантов.
Журналист и член ОНК нескольких созывов, Меркачёва много работает над тем, чтобы облегчить положение заключённых в российских тюрьмах и колониях, энергично борется за общественный контроль над системой исполнения наказаний и соблюдение законности. Она красивая молодая женщина, и её появление в тюрьме вызывает естественное оживление. В тот день она была в ударе. Уверенно и напористо отчитала сопровождавших её офицеров, которые выглядели смущёнными, пригрозила жалобами. Я рассказал Еве о ситуации, в которой оказался Тонкий, и по её настоянию спецчасть СИЗО запросила материалы суда и, надеюсь, придала им должный оборот. Не дождавшись окончания визита Евы, меня вывели на приём к врачу. В коридоре мы встретились с Анной Каретниковой, в прошлом членом ОНК, а нынче штатным советником московского управления ФСИН по правам человека. Анна шла от врача, который заверил её в том, что мои пропавшие документы и МРТ-снимки найдены, и пообещал, что мне будет прописано лечение. Её обманули. Снимки были утеряны навсегда, никакого лечения не последовало. Поэтому я написал заявление о добровольном отказе от стационара и просьбу вернуть меня в прежнюю камеру, где были некурящие соседи и устроенный быт. Вернувшись в камеру, я обнаружил новый холодильник. Вскоре появился и телевизор – без антенны он не принимал ни одного канала, но начало было положено. Толстый был посрамлён. До окончания нашего недолгого соседства он ежедневно восторгался Евой. Особенно его впечатлило, что сопровождавшие Еву офицеры покорно сносили её упрёки.

Каждая встреча с людьми, подобными Тонкому, и знакомство с их историями заставляли меня задумываться о том, насколько нетипична была моя личная тюремная одиссея, как выгодно для меня она отличалась от тоскливых дней, убогих условий и униженного положения тысяч несчастных сидельцев. Бытовые условия моих тюремных камер почти всегда были неплохими. Общественное внимание, интерес журналистов и правозащитников к нашему делу гарантировал относительно корректное отношение ко мне со стороны персонала. Заботами Тани и друзей я всегда был не только хорошо одет и накормлен, но и обеспечен информацией, книгами и газетами, а главное, я непрерывно чувствовал заботу и поддержку. Каждую неделю меня навещали адвокаты. Ежедневно приходили письма, иной раз десятками. Битва за свидания и звонки, длившаяся почти полгода, в конце концов тоже была выиграна.
Об этом нужно сказать несколько слов.
Столкнувшись с моей несговорчивостью, следователи утратили шанс доказать состоятельность сочинённого ими дела. Доказательств вины у них не было и не могло быть в принципе. Поэтому единственная возможность выбраться из патовой ситуации, в которую следователи сами себя загнали, появлялась у них только в случае признания мной несуществующей вины. Тезис прокурора Вышинского о том, что признание вины есть царица доказательств, внутренние органы хорошо переварили и усвоили. При этом квалифицированно и честно провести расследование они не могли, мужества ослушаться своих хозяев не имели. Им оставалось лишь давлением выжимать признательные показания. Давление в моём случае оказывалось через родных. Мне было отказано в свиданиях и телефонных разговорах с женой, с пожилой мамой и с дочерьми. В «кремлёвском централе», насколько мне известно, это участь большинства заключённых. Но в соседнем СИЗО я увидел, что многие заключённые с разрешения следователей часто общаются по телефону с родными и дважды в месяц получают свидания. На все мои и Танины ходатайства Полковник Цахес неизменно отвечал отказом, ссылаясь на «интересы следствия», без каких-либо пояснений. Я сомневаюсь, что закон предусматривает такое основание для отказа. Свидания в СИЗО проходят в присутствии охраны, заключённого и посетителя разделяет толстое стекло, разговоры ведутся через телефонную трубку и, без сомнения, могут быть легко прослушаны. В общем, нет сомнения, что за пустопорожним и лживым утверждением о мифических «интересах следствия» скрывалось единственное желание – вынудить меня к выгодным следствию показаниям. Свидание или телефонный разговор нужно было заслужить покладистым поведением.
Разлука с Таней была тяжела сама по себе. К тому же угнетало сознание, что я не могу помогать ей справляться с обострившимися бытовыми и денежными трудностями. Я знал, что она много и трудно работает. В созданном ею творческом центре «Среда», по сути маленьком театре для детей, Таня в одиночку выполняла все функции от директора до уборщицы. Ко всему добавились проблемы со здоровьем и заботы обо мне: передачи, посылки, письма, ходатайства… Я знал, что она не одна, что рядом замечательные друзья с их поддержкой и деятельной помощью. Но полностью избавиться от волнений не удавалось. Мне было необходимо видеть её глаза, слышать голос.
Помощники Цахеса вели себя хамски. Они приглашали Таню прийти за ответом на очередное ходатайство и, заставив прождать несколько часов в коридоре Следственного комитета, переназначали время. Возвращая отобранный у неё при обыске ноутбук, ей дали понять, что ключик к свиданиям с мужем – отказ от наших адвокатов и оговор Серебренникова, так можно ускорить расследование и облегчить моё положение. Особенно усердствовал Розовощёкий, выслуживавшийся перед Цахесом. Наряженные в мундиры следователей низколобые насекомые, исходя из своих представлений о людях, пытались напугать Таню, создать ей максимум трудностей и таким образом через неё воздействовать на меня. Они не ожидали встретить в красивой, хрупкой женщине достаточно ума, достоинства и воли, чтобы посрамить их жалкие потуги. Полагаю, что это не только приводило следователей в замешательство, но и подчёркивало их собственное ничтожество. Это порождало новый виток раздражения и мелкой мстительности. За тем следовали новые отказы в свиданиях и телефонных разговорах. До сих пор я не могу вполне представить себе, как Таня перенесла этот ад. Адвокаты и журналисты придали ситуацию огласке. В дело вмешалась уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Николаевна Москалькова, которая посетила меня в «Матросской тишине». Через полтора месяца после перевода из «кремлёвского централа» разрешение наконец было получено. То свидание было невероятным, ошеломительным счастьем. Вспоминая его, я и сейчас испытываю восхищение и благодарность Тане. И, конечно, всем, кто тогда помогал нам.
Двух предусмотренных законом ежемесячных свиданий мы так и не получили. Но перед Новым 2018 годом было ещё одно, а затем – ещё через полтора месяца, в мой день рождения.
Новый год в тюрьме я встретил лишь однажды. У двоих из трёх соседей такой опыт уже был. В тюрьме острый дефицит праздника, поэтому взрослые суровые мужчины прилежно собирают скудные, дозволенные атрибуты торжества. Наклеивают звёздочки на облупленный холодильник и снежинки на свинцового цвета металлические шкафчики. В нарушение правил внутреннего распорядка развешивают на кроватных спинках контрабандно принятую в передаче жидкую мишуру. Охранники благосклонно не замечают отступлений от ПВР. Готовится праздничный ужин, кудесник Рэмбович в тот день блеснул приготовлением фаршированного перца на своих самодельных космических пароварках. Чокнувшись морсом, мы пожелали друг другу никогда больше не встречать Новый год в подобных местах. Второй тост за родных. У всех жёны и разного возраста дети. В камеру будто вползла туча, состоящая из взвешенных капель грусти и усталости. Подбадривая друг друга, мы ещё не очень убедительно пошутили и не очень искренне посмеялись этим шуткам и вскоре разбрелись по своим шконкам. Каждый хотел побыть наедине со своими надеждами и воспоминаниями.
Кажется, никто из моих соседей не знал точной даты моего рождения. Но за несколько дней до шестидесятилетия количество ежедневно приходящих писем заметно увеличилось и приросло телеграммами на цветных бланках. Не совсем точно говорить, что письма приходили ежедневно. В выходные и праздники старик-библиотекарь, чьей обязанностью было ходить на почту, отдыхал. Например, в Новый год у него были двухнедельные каникулы, и все письма и поздравления на нас вывалили большим тюком в январе, числа десятого. Постоянно случались какие-то перебои в работе цензоров, или дежурным просто лень было разносить письма по камерам. В общем, на деле почта приходила два-три раза в неделю. От этого объём моей февральской корреспонденции распухал до толстых пачек. Это вызывало удивление, любопытство и какое-то общее возбуждение не только среди арестантов, но и среди охранников. Я никогда не чувствовал себя значительным человеком, состоятельным или состоявшимся. Важность и чрезмерное самоуважение, кажется, не мои черты. И мне сложно представить себя в обычной мирной жизни классическим юбиляром, степенно принимающим поздравления. Все последние годы мы с Таней любили и стремились проводить наши дни рождения тихо, вдвоём, подальше от Москвы. Тем более странно, что настоящее пышное торжество по случаю дня рождения настигло меня в тюрьме. Мне следует опять благодарить друзей, старых и вновь обретённых, за любовь и поддержку. И, поверьте, эта благодарность не может оказаться чрезмерной. О том, что Таня утром этого дня провела несколько часов под дверями Следственного комитета и едва ли не угрозами и силой вырвала у помощников Цахеса разрешение на свидание, я узнал много позже. А тогда, взахлёб обмениваясь новостями и нежностями – плевать на охрану и прослушку, пусть это будет их проблемой, – мы не могли насмотреться друг на друга через разделявшее нас грязное стекло. Отведённый нам час пролетел едва заметной секундой. Но счастливое послевкусие ещё долго грело сердце. В тот день был мой черёд удивлять изысканным по тюремным меркам угощением. Таня передала большой нарядный торт. Было весело и как-то бесшабашно. Этот день оказался настоящим праздником.
18 марта 2018 года Россия выбирала президента. Пребывание в следственном изоляторе не поражает граждан в их избирательном праве. Я устроил шутливый праймериз и получил результат, сильно отличавшийся от усреднённых экспертных предсказаний. Разумеется, это было дурашливой игрой, не имеющей ничего общего с социологически достоверными данными. Однако в каждой шутке, говорят, есть доля шутки. Четверть голосов получил действующий президент. По двадцать пять процентов набрали кандидаты Ксения Собчак и Григорий Явлинский. Ещё двадцать пять процентов голосующих зэков не определились с выбором. Ближе ко дню голосования, после отселения в другую камеру провластного Рэмбовича, различия в предпочтениях охваченного опросом тюремного населения от среднероссийских стали уже вызывающими. Кандидатура Ксении Анатольевны, хоть и украшаемая порой обидными эпитетами и скабрёзными шуточками, тем не менее явно лидировала. Правда, горе-шпион Намсарай Дамбаев последовательно портил картину стопроцентной «чеченской» явки, заявляя, что при любых обстоятельствах испортит свой бюллетень, изорвав его в мелкие клочья. Недели за две до выборов во время проверок я начал интересоваться у офицеров, как будет организовано голосование заключённых. Но ни в одной из дежурных смен мне не смогли или не захотели ответить на этот вопрос. В день выборов с самого утра ощущалась большая суета. Начальство российской тюрьмы номер один ожидало разных неприятных гостей, включая собственное руководство. Кроме того, прибывало большое количество гражданских лиц – общественников и наблюдателей. Предстояло водить многочисленные группы зэков к месту голосования и обратно, поэтому была усилена охрана, ей было придано большое полицейское подкрепление. Не знаю, из каких подразделений понабрали временных бойцов, но в них чувствовалось какая-то робость. Эти парни были не знакомы с тюремными порядками и нравами, плохо ориентировались в замысловато устроенных коридорах, переходах и лестницах. Они были напряжены и подозрительны. Местные охранники на их фоне демонстрировали эдакую удаль бывалых, всезнающих и немного утомлённых старожилов. Подобно армейским «дедам», они руководили новобранцами со смешанным выражением раздражения и снисходительности. Нам несколько раз объявляли, чтобы мы готовились под конвоем проследовать к урнам свободных выборов. Потом отменяли приказ, чего-то ждали. Наконец вывели из камеры и проводили в корпус, где обычно происходили встречи со следователями и адвокатами, заперли в кабинете, оборудованном встроенной металлической мебелью, столом и лавками. Окно, почему-то не заклеенное серой непрозрачной плёнкой, как в других подобных кабинетах, выходило на неширокую пустынную улицу. Старый обшарпанный дом напротив смотрел на тюрьму немытыми окнами, имел нежилой вид. Кто-то уверенно рассказывал, что почти все квартиры в этом и подобных домах арендованы иногородними родственниками заключённых. Весь фасад от неровного асфальтового тротуара до второго этажа был заклеен истрёпанными объявлениями адвокатов, обещавшими быстро и недорого решить любые проблемы. Представлялось, как эти, сродни вокзальному жулью, «решалы» обирают какую-нибудь замученную тётку, на последние деньги прибывшую в Москву выручать попавшего в беду сына или мужа. На улице было мрачно и пустынно, всё там будто замерло в противоположность суетливому оживлению, царившему внутри тюрьмы. Через полчаса нас, нетерпеливо поторапливая, стали по одному провожать в комнату для голосования. И без того небольшое пространство комнаты было сжато за счёт выгороженного отсека, в котором за занавеской помещалась урна. За расположенными под углом вдоль двух стен столами плотно и неудобно, прижавшись друг к другу, сидело множество народу. Несколько человек были в форме – серо-синей фсиновской и ярко-синей прокурорской. Но большинство – в гражданской одежде, в основном женщины. Первые, в форме, были угрюмы и озабочены. Вторые, напротив, приветливы и оживлены. Войдя, я встретил их доброжелательные улыбки. Одна из сидевших напротив двери женщин в ответ на моё обращённое ко всем приветствие громко и внятно произнесла: «Мы наблюдатели. Зрители вашего театра. Мы следим за делом и болеем за вас». Я был чрезвычайно впечатлён и растроган такой неожиданной и ярко явленной поддержкой. За ширмой поставил «галочку» и опустил бюллетень в урну. На обратном пути услышал, как местный опер говорил прикомандированному: «Это спецблок, нормальные люди; вот сейчас общий поведут и тубонар – насмотритесь».
Через несколько дней, когда официальные итоги всенародного голосования были подведены и опубликованы, мне попалась газетная статья, в которой приводились сведения об итогах выборов в различных закрытых спецучреждениях. В частности, у нас, в СИЗО № 1 «Матросская тишина», и в психиатрической больнице № 1, известной, как Кащенко или Канатчикова дача. Из статьи следовало, что психи и зэки – абсолютные лидеры протестного голосования: результаты всех без исключения оппозиционных кандидатов были кратно лучшими, чем в целом по стране. Впрочем, стоит заметить, что даже если бы избирком учитывал только эти экстремальные результаты, общий итог выборов всё равно бы не изменился, действующий президент побеждал вполне уверенно.

Неожиданно и по необъяснимым причинам было прекращено безнадёжно тянувшееся, всё глубже погрязавшее в трясине бездоказательного вранья предварительное следствие. Из опасения обвинений в необоснованном затягивании или по другим неведомым соображениям высокого начальства, но так или иначе 10 января, в первый рабочий день 2018 года, мне предъявили соответствующее постановление Полковника Цахеса. Несомненно, решение было принято им не самостоятельно, полковник действовал по приказу. Нерадивая следственная группа считала, что сроки будут продлеваться бесконечно долго. Команда о завершении расследования явно застала их врасплох и оказалась неожиданностью для самих расследователей. Теперь они принялись судорожно шить дело в самом буквальном смысле этого выражения. Десятки тысяч листов совершенно бессмысленных материалов беспорядочно группировались в тома. Здесь были отчёты о налоговых проверках сотен компаний и индивидуальных предпринимателей, когда-либо взаимодействовавших с «Седьмой студией». Попадались и сведения о фирмах, не имевших к делу никакого отношения. Сотни банковских договоров, уставные и регистрационные документы явно никем не читались, не говоря уже об их исследовании и анализе. Материалы подшивались в том же виде, в котором они изымались в различных учреждениях, вне логики и хронологии засовывались под картонные обложки. Нарушалась нумерация листов, случалось, они вшивались вверх ногами. Следователи пытались создать впечатление, что проделали гигантскую работу. Для объёма в дело помещались распечатанные с нескольких разных компьютеров одни и те же материалы групповой служебной переписки. Апофеозом очковтирательства оказались помещённые в дело распечатки статей бухгалтерских сайтов и форумов. Привыкшие мерить мир по себе жулики в погонах были уверены, что никто не станет вникать в потоки словесного абсурда и изучать весёлые картинки, составившие десятки тысяч листов бездарно сочинённого ими «Театрального дела». Но мы с адвокатами не поленились скрупулёзно вычитать все двести семьдесят томов. О некоторых перлах я расскажу чуть позже.
Постановление мне принесла лейтенант Ирина Владимировна Середина, состоявшая членом следственной группы Лаврова. Прежде я видел её только в суде, мельком, и не имел никакого личного впечатления. Выдумывать кличку не пришлось – я знал, что молодые артисты «Гоголь-центра», побывавшие у неё на допросах в качестве свидетелей, уже хлёстко прозвали её Бетоном. На первый взгляд прозвище не сочеталось с изящным обликом молодой женщины. Но безразличное выражение скучных глаз и твердокаменное следование полученной от начальства инструкции, не предполагавшее сколько-нибудь живой реакции на собеседника, подтверждали его точность. В документе сообщалось, что предварительное следствие завершено, собран большой объём доказательств и допрошены все свидетели. Дополнительно Бетон вручила заключение финансово-экономической экспертизы на ста шестидесяти двух листах. Я попросил дать мне время для знакомства с документами и отказался подписывать их не читая. А главное, я настаивал, чтобы в соответствии с УПК мне предъявили в подшитом и пронумерованном виде все материалы завершённого расследованием дела. Последние иллюзии относительно целей и методов следствия давно оставили меня, и я обоснованно опасался, что нечистоплотные следователи могли задним числом подложить в дело фальсифицированные доказательства. Бетон была разочарована, но вынуждена согласиться с моими доводами. На следующий день явился ещё один прежде мне незнакомый «птенец гнезда Лаврова». Капитан Д. Р. Сюбаев держался истым джигитом, беседу вёл напористо, убеждал меня подписать документы, взамен сулил благорасположение, клялся в честности, просил войти в положение и обещал в ближайшее время предоставить все тома дела. Увлекшись, он не только сам поверил в свои россказни, но даже вошёл в своеобразный транс и долго не мог остановиться, влекомый поэтическим чувством. Глаза его лучились и маслились, голос срывался на декламацию. Он старался создать впечатление мужественного и твёрдого человека, хозяина своему слову, но при этом неотвратимо напоминал описанного Ильфом и Петровым голубого воришку Альхена. Мне он так и запомнился под именем Джигит Альхен. Адвокат Ксения Карпинская была серьёзно больна. В этот день ей было назначено медицинское обследование. Несмотря на плохое самочувствие, она прибыла в СИЗО на встречу со следователем, но была ограничена временем и попросила перенести окончание дискуссии и подписание протокола на следующий день. Это побудило джигита и офицера перейти к угрозам и шантажу. Он заявил, что подаст рапорт о попытке адвоката сорвать следственные действия и возбудит ходатайство о её отводе. В конце концов я согласился подписать протокол об ознакомлении с обоими постановлениями. Джигит Альхен чуть не мамой поклялся вскоре представить мне оформленное дело. И, разумеется, обманул. Больше я его никогда не увидел. Два месяца я вообще не видел никого из следственной группы. Кроме Розовощёкого, который представлял ходатайство следствия о продлении меры пресечения в заседании Басманного суда 16 января. Я потрясал перед судьёй Евгенией Сергеевной Николаевой постановлениями Полковника Цахеса. В одном из них – постановлении об окончании следствия – говорилось, что все доказательства уже собраны и все свидетели опрошены. В другом, в котором полковник ходатайствовал о продлении моего содержания под стражей, утверждалось, что, оказавшись вне тюрьмы, я уничтожу доказательства и повлияю на показания свидетелей. Судья Николаева сделала вид, что не усматривает в этих двух постановлениях очевидного противоречия, и ещё на три месяца оставила меня в тюрьме. Наступило полное затишье. Я писал безответные ходатайства о приобщении к делу моих показаний, которые расширили бы куцый круг бессмысленных вопросов, заданных мне следователями. По моему искреннему убеждению, эти показания могли и должны были помочь установлению истины и отправлению правосудия. Если прежде Полковник Цахес не один раз отказывал в приобщении моих показаний по причине «нецелесообразности», то теперь просто не счёл нужным отвечать. Также не было ответа на ходатайства о предоставлении материалов дела на ознакомление. Любопытно, что в суде Розовощёкий во всеуслышание объявил, и это внесено в официальный протокол, будто дело содержит сто двадцать томов материалов и что все эти сто двадцать томов переданы на ознакомление потерпевшему, то есть в Министерство культуры России. Ошибся Розовощёкий более чем вдвое. Трудно верится, что шесть следователей не сумели пересчитать две с половиной сотни томов. Зато не оставляет сомнений, что все доказательства в этом «деле», как и число «сто двадцать», были взяты с потолка.
Эксперт Татьяна Васильевна Рафикова поработала на славу. Она сумела установить, что созданная Серебренниковым «преступная группа» якобы похитила не шестьдесят восемь миллионов рублей, как то подозревало благодушное следствие, а целых сто тридцать три! Её незамысловатые вычисления базировались на какой-то отвлечённой самодеятельной методе. Не буду утомлять читателя подробностями парадоксальной логики госпожи Рафиковой. Интересно другое. Подпись эксперта была заверена печатью Некоммерческого партнёрства «Коллегия ревизоров, экспертов и специалистов». Но на первой же странице пухлого экспертного заключения указано, что НП «КРЭС» «не является экспертным учреждением…» и «заключение экспертизы содержит… личное профессиональное мнение эксперта». Иначе говоря, ответственность за результаты экспертизы полностью перекладывалась лично на специалиста глубоко пенсионного возраста. Следствие пыталось оправдать свой сомнительный выбор отказами государственных экспертных учреждений, сославшихся на занятость своих сотрудников. Но минимум два таких учреждения были готовы закончить экспертизу в декабре семнадцатого года, то есть в те же сроки, что и Рафикова. Цахес и его начальник генерал С. В. Голкин в ноябре направили письмо в правовое управление о невозможности провести экспертизу «на безвозмездной основе в разумные сроки» в государственных экспертных учреждениях. При этом ещё девятнадцатого сентября Цахес подписал постановление о назначении Рафиковой. Без сомнения, выбор ручного эксперта был предопределён необходимостью получить удобный следствию результат. Историю этой экспертизы украшает ещё одна выразительная подробность. Данные для её проведения были извлечены из компьютера бухгалтера Жириковой. Но в деле имеется постановление Цахеса, признающее этот компьютер недопустимым доказательством. Не сложно прийти к умозаключению, что выводы, основанные на недопустимом доказательстве, также должны быть признаны недопустимыми.
Но логика в нашей правоохранительной системе, вероятно, имеет репутацию лженауки. Во всяком случае, отношение к ней весьма подозрительное. Эту догадку иллюстрирует такой эпизод. Маша Тырина по моей просьбе подобрала и прислала мне в СИЗО учебники и монографии по логике. Обычно после прохождения цензуры я получал книги в камеру через три-четыре дня после их поступления. Эти пять книжек почему-то задержали на две недели, по истечении которых меня внезапно перевели в другой следственный изолятор. Перевод состоялся ночью с субботы на воскресенье, и добродушный Иваныч, не имевший доступа к складу, не сумел помочь мне. Я забавляю себя фантазией, будто вертухаи организовали самодеятельный кружок любителей логики и, собравшись после смены в каком-нибудь своём красном уголке, читают мои книжки вслух.
В середине марта меня вывели в следственный корпус. В кабинете скучал следователь Терёхин (Юнга). Перед ним на столе лежал один том дела, почему-то пятый, в сером переплёте. Как и Розовощёкий в суде, Юнга даже приблизительно не знал, какое количество томов содержится в деле. И не мог знать, так как приказ о прекращении предварительного расследования застал команду Цахеса врасплох, а макулатура, которую они выдавали за доказательства, собиралась и беспорядочно группировалась в папках дела задним числом. Ксении Карпинской не было, её намеренно не известили о начале ознакомления. Я не стал читать в отсутствие адвоката принесённый мне том и потребовал предъявить все материалы в подшитом и пронумерованном виде. Юнга был готов к моей реакции. Он равнодушно составил акт об отказе подписать протокол ознакомления и исчез на три дня. Ещё трижды в течение десяти дней Юнга и Бетон приносили, обычно к концу рабочего дня, по одному тому, не содержащему значимой информации. Так начался завершающий этап следствия.
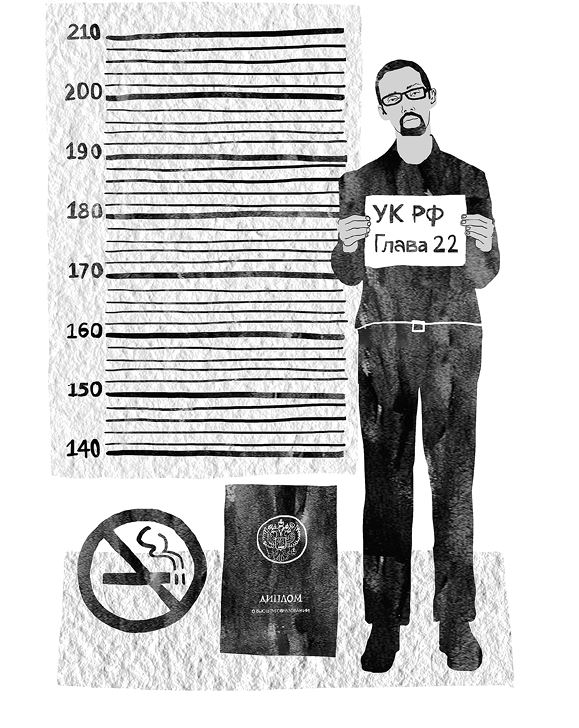
Воскресным утром мне приказали собирать вещи. Это могло означать что угодно – например, перевод вслед за Рэмбовичем и генералом в другую камеру. Соседи строили догадки. Среди них была и фантастическая – изменение меры пресечения. Достоверным это невероятное предположение казалось им потому, что относительно недавно мы видели прямые телетрансляции пресс-конференции президента страны и заседания Общественной палаты с его участием. Журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Александр Архангельский обращали внимание на неоправданную жестокость избранной мне меры пресечения и требовали прекратить произвол. Мои соседи, умные, опытные люди, были, как и большинство сограждан, убеждены, что жизнь любого в нашей стране зависит от воли одного-единственного человека. И хотя «высшая» воля никак не была явлена, им хотелось верить в эту фантазию из доброго ко мне отношения.
Собравшись, я прождал несколько томительных часов и только под вечер был препровождён Иванычем к автозаку и передан конвою. Иваныч, пожилой добродушный вертухай, был моим болельщиком. Однажды, провожая меня в суд, он сообщил, что следит за «Театральным делом» и черпает новости из репортажей «Бизнес FM». Наше прощание немного подпортила моя безуспешная попытка вызволить застрявшие на складе книги. Но всё же последними словами, которые я слышал, покидая «Матросскую тишину», были пожелания удачи и справедливости. Автозак колесил по Москве всю ночь, собрав несколько десятков человек, прежде чем остановиться под утро в СИЗО «Медведь». Ещё два часа я провёл в грязной, вонючей комнате сборки в компании наркомана, страдавшего от жестокой ломки, и тихого молодого киргиза, зарезавшего человека в драке против троих напавших на него скинхедов. Принимавший нас капитан, перетряхнув мои вещи, коротко спросил: «По мужикам?» Я не сообразил, что мне предлагалось самому выбрать, идти ли в камеру к блатным или к непрофессиональным преступникам, и попросил капитана говорить со мной по-русски. Тот взглянул на меня с сочувственным любопытством и приказал двум невесть откуда взявшимся рабочим из числа заключённых помочь мне донести тяжёлые сумки с книгами. Это было очень кстати. Я валился с ног от усталости, а путь по длинным коридорам огромной тюрьмы оказался долгим. Наконец в седьмом часу утра охранник остановился перед дверью камеры и попытался открыть её. К моему изумлению, дверь не поддалась. С минуту слышался невнятный шорох, потом открыли изнутри. Там, где я сидел прежде, подобное было невозможным. Но охранник отнёсся к происходящему вполне обыденно и безразлично. В довольно большой комнате висел густой табачный дым. Громко работал телевизор. На восьми шконках, объединённых в четыре двухъярусные секции, спали люди. Ещё четверо слонялись по комнате. С моим появлением из-под одеяла вылез спавший почему-то в одежде молодой симпатичный грузин с весёлыми плутоватыми глазами. Предложили чифирь, я разбавил его большим количеством кипятка. Познакомились, доброжелательно поговорили. Отари, назовём его так, знал тюремные порядки и пользовался авторитетом у других насельников камеры. Но, он подчеркнул это, прежде чем вынести какое-то существенное суждение, он испрашивал одобрения у старших по продолу, с которыми свободно общался по телефону, а иногда и встречался при посредничестве надзирателей. При этом смотрящим в камере формально был молодой узбек, назовём его Ахмаджон. У меня не хватило любопытства и времени разобраться толком в подробностях тюремной иерархии и уголовного устава.
Через полчаса мне выделили персональную шконку на первом ярусе. Возможно, из уважения к моему возрасту – самый старший из обитателей камеры был лет на двадцать моложе. Кроме меня, ещё у трёх человек были постоянные, им принадлежащие спальные места. Поскольку людей было в полтора раза больше, чем кроватей, спали по очереди. Разумеется, я сам предложил своё «привилегированное» место молодым соседям для отдыха днём. Кроме бесшабашного уличного вора Отари и Ахмаджона, в камере находился бодрый угонщик автомобилей, многодетный отец лет сорока. Он проявил большой интерес к моей библиотеке и недолгое время нашего соседства жадно читал. Ещё один, двухметровый худой человек со скучным лицом, восемнадцать лет из своих сорока провёл за решёткой. Не помню уже, в чём заключалось его уголовное ремесло. Длинный отвечал за коммуникацию с соседями и со стороны нашей камеры обеспечивал работу тюремной почты: ночами он ловко ладил «дороги» – сооружал «духовое ружьё», плёл «коней», отправлял и принимал «малявы». Я заворожённо наблюдал за этими чудесами инженерной мысли. При этом Длинный был тих и скромен, не претендовал на лидерство и не давал советов. Ему ассистировал смазливый, совсем юный паренёк, обвиняемый, видимо, не без оснований, в торговле наркотиками. Отношение к нему было терпимым, но неуважительным. Остальные обитатели камеры – таджики и узбеки – плохо говорили по-русски и не вполне осознавали своё положение. Я думаю, что если не все, то некоторые из них искренне не понимали, за что оказались в тюрьме и в чём их обвиняют. Я вызвался помочь им в составлении ходатайств и заявлений, которые могли бы прояснить ситуацию и как-то облегчить их участь. Инициатива была принята с благодарностью, и за несколько дней я написал два десятка официальных писем в адрес разных следователей, прокуроров и тюремного начальства. Ахмаджон, обвиняемый в нарушении миграционного законодательства, доверчиво на ломаном русском рассказывал о невесте, которая ждёт его дома, и о ссоре с братом, из-за которой был вынужден уехать на заработки в Россию. Он попросил разрешения называть меня дедом, я не смог отказать. Звучало это как «Дэд».
Первое утро в СИЗО «Медведь» началось рано – меня после бессонной, утомительной ночи вывели на встречу со следователем. Всё в этой тюрьме было необычным, не похожим на мой прежний опыт. В «кремлёвском централе» полторы сотни метров от камеры до следственного кабинета по пустынным коридорам меня сопровождали два сотрудника, и дважды на этом пути я подвергался досмотру. После этого удивительными казались относительно мягкие порядки в шестом корпусе «Матросски». Но и они не могли сравниться с вольницей, открывшейся мне в «Медведе». Здесь пара охранников долго собирала целую колонну заключённых, человек тридцать. Разномастная и многоязыкая толпа нестройно передвигалась между локалками – отсеками, отгороженными с двух сторон решётками. На каждом этаже две-три таких локалки разграничивали длинные коридоры. Некоторые проходили не задерживаясь, в других застревали надолго. Перед входом в коридор, по обеим сторонам которого располагались следственные кабинеты, всю толпу загнали за решётчатую дверь в узкую комнатку со скамьёй, вмещавшей восемь-десять человек. Там уже находилось два десятка зэков, а с нашей партией толпа увеличилась, наверное, до полусотни человек. Некоторые курили, не обращая внимания на окрики надзирателей. Там я встретил своих знакомых по путешествиям в автозаках – группу строителей и энергетиков, чьё дело о мошенничестве на строительстве газопровода в Южной Осетии так же, как и моё, вела группа Полковника Цахеса. Строители ругали его последними словами, а я, понимая, кому адресованы проклятья, был склонен верить их утверждениям, будто дело полностью сфабриковано. В толпе обращал на себя внимание стройный, красиво седеющий человек в дорогом костюме, уже не свежем, но опрятном. Он оказался адвокатом из Баку, уже год дожидающимся в тюрьме решения об экстрадиции.
Я знал, что решение о том, где и как следует держать человека под стражей, принимаются не ФСИН, а следователем. Позже в деле я увидел постановление Цахеса с универсальным объяснением причин моего перевода – «в связи с целесообразностью». Не знаю, чего больше в этом объяснении – хамства, основанного на сознании вседозволенности, или беспросветной глупости. Но понимание полковником целесообразности поражает новизной. Посудите. «Матросская тишина» находится в 15 минутах пешего хода от Следственного комитета. В «Матросской тишине» достаточно кабинетов для проведения следственных действий. Заключённых спецблока в «Матросске» конвоируют по одному, и путь от камеры до кабинета не превышает десяти минут. Сравним с СИЗО «Медведь»: дорога занимает минимум полтора часа – метро, автобус и те же пятнадцать минут пешком. В огромной тюрьме не хватает кабинетов, следователю случается помаяться в очереди. А уже получив место, приходится подолгу ждать, пока освободившийся конвоир приведёт подследственного. В общем, было понятно, что Цахес посчитал целесообразным показать мне «настоящую тюрьму». Поскольку расследование было объявлено завершённым и ожидать от меня признаний или перемены показаний не приходилось, то, скорее всего, это было просто местью за несговорчивость. Как истинный садист-извращенец, полковник не считался с доводами разума и не щадил своих подчинённых: все средства казались ему пригодными, лишь бы было плохо его врагу, в данном случае мне.
В двенадцатом часу меня наконец привели в кабинет, где уже давно томился Мурзилка. Я принялся читать. От усталости, духоты и тусклого света буквы расплывались по бумаге, не желая собираться в предложения. Когда же с усилием мне удавалось пробираться к смыслу, содержание поражало своей никчёмностью. Квитанции об уплате госпошлины при регистрации каких-то компаний, возникших задолго до проекта «Платформа»; копии паспортов учредителей, директоров и бухгалтеров, среди которых не было ни одного моего знакомого; однотипные уставы и выписки из реестров регистрации юридических лиц; сведения об уплате штрафов за нарушения правил дорожного движения… – свалка вполне бесполезной информации. На вопрос, какое отношение всё это имеет к моему делу, Мурзилка равнодушно пожал плечами. Мне сделалось дурно, болело сердце. Я прервал чтение и попросил вызвать врача. Неохотно оторвавшись от экрана смартфона – Мурзилка смотрел какой-то фильм, – следователь несколько раз нажал кнопку вызова охраны. Потом ещё и ещё. Никто не реагировал. Я стал стучать в толстый прозрачный пластик запертой двери. Прошло около получаса, прежде чем появился озлобленный взмыленный охранник. Справедливо будет заметить, что пара вертухаев непритворно разрывалась между десятками кабинетов со следователями, адвокатами и заключёнными. Он заявил, что врача не будет. Просто потому, что «они сюда не ходят», не хотят и нет такой практики. Ещё минут через сорок появился дежурный помощник. В его сопровождении и в компании десятка зэков из соседних камер я потащился в обратном направлении. Было обещано, что дорогой меня осмотрит врач. Возле какой-то двери, за которой мелькнул белый медицинский халат, мы ненадолго остановились. Зашедший и быстро вернувшийся ДПНСИ сказал, что врач придёт в камеру. Не пришёл. Ни в этот день, ни на следующий. Хотя на утренней проверке я снова просил об этом сменившегося дежурного.
Зато пришёл майор-оперативник. Странный разговор состоялся почему-то в коридоре. Опер с нажимом предлагал мне обращаться к нему в случае притеснений и обид со стороны заключённых. Я ответил, что у меня нет и не предвидится проблем с сокамерниками. Опер подавил раздражение, и в голосе зазвучала угрожающая нотка: «Ну смотри, чтобы потом, когда у тебя будут деньги отжимать, ко мне претензий не было». Я не вполне понимал, что это было – приглашение к стукачеству или попытка вымогательства? Не исключаю и того, что связанный с блатной верхушкой тюрьмы и по её поручению опер просто выяснял, насколько можно поживиться за мой счёт. Ему были известны вменяемая мне статья и сумма якобы нанесённого ущерба. Если бы я оказался реальным преступником, в тюрьме не осудили бы меня за похищенные деньги, но рассчитывали бы на пополнение общака. У меня болела голова, но в прокуренной камере я чувствовал себя всё же комфортнее, чем беседуя в коридоре с оперативником, и хотел поскорее вернуться туда. Сворачивая разговор, я сообщил, что не нуждаюсь в опеке, и потребовал, чтобы, обращаясь ко мне, опер использовал местоимение «вы».
Немного поспав, я почувствовал себя лучше и взялся за написание ходатайств от имени моих новых сокамерников. Вечером этого длинного, первого на новом месте дня мне протянули трубку мобильного телефона. Впервые за десять месяцев я держал в руках это чудо цивилизации. Было соблазнительно набрать номер Тани, но я подозревал, что, возможно, именно за этим меня и привезли в «Медведь», чтобы поймать на нарушении ПВР или послушать мои разговоры. Отказался. Ночью телефон возник снова – со мной хотел поговорить авторитетный арестант, смотрящий за корпусом. В отличие от моих сокамерников, он знал обо мне и моём деле. Поинтересовавшись, как я устроился в камере и нет ли у меня проблем, спросил, чем я могу помочь тюрьме. Я ответил, что на денежную помощь с моей стороны рассчитывать не стоит. На следующий день охранник вывел меня из помещения сборки на лестницу. Там я встретился с вчерашним собеседником, молодым спортивным мужчиной, изучавшим меня умным, цепким взглядом. В присутствии надзирателей он не чувствовал никакого стеснения, держался спокойно и уверенно. Сказав, что всё будет в порядке, велел оставить нас одних. Мы коротко повторили вчерашний разговор. Он подчеркнул, что собранные деньги расходуются на общие тюремные нужды, в частности, на поддержку неимущих арестантов и покупку лояльности администрации. Я ещё раз объяснил свои обстоятельства и позицию, сказал, что по мере возможности буду помогать людям, оказавшимся непосредственно рядом. Разговор был спокойным и вежливым, мы вполне поняли друг друга и пожали руки.
Через час я через адвоката попросил Таню отказаться от дорогих продуктов в передачах, а вместо них прислать побольше чаю, сахару, сигарет, пряников, а также мыла, зубной пасты и щёток, тетрадей и ручек. Эта передача пришла на удивление быстро. Мои соседи, оставив часть вещей и продуктов у себя, вторую, бо́льшую, переправили в так называемую котловую хату, откуда они расходились по другим камерам.
В следственном кабинете меня ждала Юлия Лахова. Она рассказала, что о моём переводе стало известно накануне, когда у Тани не приняли передачу в «Матросской тишине». При этом там не смогли сообщить, куда именно меня отправили, – возможно, действительно не знали. Снова вместе с Таней меня целый день разыскивали адвокаты, журналисты, общественники: писали заявления, звонили по официальным и неофициальным телефонам, обращались к руководству СК и ФСИН, к омбудсменам. Было ощущение, что информация намеренно скрывалась, причины перевода никто не мог объяснить. Все были встревожены. Ксения Карпинская в тот день была занята в судебном процессе по другому делу, поэтому Юлия, оставив на время своего новорождённого малыша, примчалась меня проведать. Она отметила мой болезненный вид, расспросила о здоровье и условиях содержания. Впечатлённая рассказом о перенаселённой камере и о том, что я не могу попасть к врачу, Юля добилась приёма у начальника СИЗО и потребовала, чтобы мне была оказана медицинская помощь, грозила оглаской. После этого меня проводили в медчасть, где пожилой уставший доктор с пустыми глазами измерил мне давление, без интереса выслушал жалобы на боли в сердце и упавшее зрение и сунул какую-то таблетку.
Утром следующего дня у начальника тюрьмы побывала уже взволнованная и возмущённая Ксения Карпинская. Затем пришла Анна Каретникова, добрая фея московских СИЗО, и добилась, чтобы меня принял и осмотрел лично начальник медчасти СИЗО. Потом появились Когершын и её коллеги по ОНК. Несколько раз за день меня выводили из камеры. Несколько раз сотрудники и общественники из наблюдательной комиссии приходили осматривать камеру. Мои сокамерники были потрясены и озадачены таким невиданным оживлением. Также недоумевали и задействованные во всей этой суете сотрудники. Лицемерный абсурд нарастал с каждым часом и достиг своего апогея к вечеру. Теперь уже меня привели в кабинет начальника. Там поджидал озлобленный и обескураженный опер, двумя днями раньше беседовавший со мной в коридоре.
– Вы спите на полу? – задал он неожиданный вопрос.
– Нет.
– А что же ваши друзья-журналисты пишут всякую ерунду?
Оказалось, что в интернете только что, буквально час назад, появился материал, в котором со слов адвокатов и членов ОНК описывались условия моего содержания. Всё в нём было правдой: и грязные стены, и тусклый свет, и щели в полу, и мыши, и ломаная сантехника, и постоянная завеса табачного дыма. Правдой было и то, что на восьми койках по очереди спали тринадцать человек. Но не на полу. В нашей камере никто не позволял себе неуважительного отношения к соседям, а спать на полу не только неудобно, но по тюремным понятиям ещё и унизительно. Эта статья мгновенно, несмотря на конец рабочего дня – подозреваю, что стараниями прекрасной Анны Каретниковой, – оказалась в зоне внимания московского управления ФСИН. Одновременно, реагируя на жалобу адвокатов, направила запрос руководству ФСИН уполномоченный по правам человека Татьяна Николаевна Москалькова. Всё это вошло в резонанс и обрушилось на головы начальников «Медведя». Опер потребовал, чтобы я написал объяснительную записку, опровергающую статью. Я отказался. Опер попросил, я снова отказался. Опер взмолился, я был непреклонен. Появился замначальника по воспитательной части (я с удивлением узнал, что, оказывается, есть такая часть), а затем и сам начальник. Оба были вежливы, спокойны и даже веселы. Было понятно, что несчастного опера назначили крайним, ответственным за все огрехи тюрьмы. Начальник ласково повторил просьбу об объяснительной, которую ему нужно было приложить к своему рапорту. Я предупредил, что, следуя правде, ничего приятного о тюрьме написать не смогу и автора статьи опровергать не буду. Ну конечно, согласился начальник, ничего, кроме правды. Я подробно описал всё, что происходило в три предыдущих дня. Картина выходила очень неприглядная. В конце я решил всё-таки добавить примирительную нотку и написал, что у меня нет претензий к руководству СИЗО, поскольку я отдаю себе отчёт в том, что они лишь выполняют преступные распоряжения следователей. Так себе получился комплимент.
Нежданные встречи и разговоры на этом не закончились. Не доходя до камеры, меня привели в другой кабинет. Двое мужчин в штатском представились инспекторами ФСИН, подробно расспросили о событиях, связанных с переводом из «Матросской тишины» в «Медведь», и об условиях содержания. Тоже попросили написать объяснение. В слегка сокращённом виде я продублировал сочинение, оставленное у начальника. В конце также заклеймил позором Следственный комитет.
Уже за полночь я без сил вернулся в камеру, где ожидали новые сюрпризы. Из двенадцати человек осталось восемь, включая меня. Каждый возлежал на своей отдельной кровати. Никто не спал. Происходило нечто небывалое и необъяснимое, отчего все пребывали в весёлом изумлении. Рассказали, что, пока я объяснялся в кабинетах начальников, юного наркоторговца и четверых таджиков перевели в другие камеры. Приказали проветрить помещение и меньше курить. Соседи воспринимали происходившее как потеху. Мне же сделалось до тошноты противно от такого бессовестного лицемерия начальства. И стыдно от того, что где-то в соседних камерах, таких же перенаселённых, а возможно, и с худшими условиями, появится ещё по одному лишнему человеку и всем станет ещё тяжелее. Но никто не вступится за них так же горячо и действенно, как за меня.
Но это ещё не было пределом. На следующий день абсурд стал переходить в безумие. С утра появился, держа под мышкой пару папок с материалами дела, вновь прикомандированный к следственной группе Цахеса майор Пётр Сергеевич Кудинов. Был он крайне медлительным, за что и получил прозвище Майор Вихрь. В принесённых Вихрем материалах впервые встретилось нечто любопытное. Во-первых, халтурно выполненная справка об оперативно-разыскных мероприятиях в отношении меня, явно никогда не проводившихся; эта подделка иллюстрировала, как грубо фабриковалось моё дело. Во-вторых, несколько подлинных литературных перлов, от чтения которых было невозможно оторваться, несмотря на их очевидную бессмысленность. Так, например, на восьмидесяти листах дела было представлено расследование покупки дома номер шестнадцать в деревне Часлицы Гусь-Хрустального района Владимирской области. Была опрошена продавщица местного сельпо, покойные родители бывшего мужа которой много лет назад продали этот дом неизвестному человеку, которого с тех пор никто не видел. Деревенский детектив сопровождали десятки страниц переписки между Следственным комитетом, Федеральной службой безопасности и местным участковым. Кто был этим таинственным покупателем деревенского дома и какое отношение всё это имело к проекту «Платформа», не объяснялось.
На обратном пути в камеру я издали заметил странное оживление возле нашей двери. Мне велели зайти в соседнее помещение. Там было пусто. На полу сидели Отари, Угонщик автомобилей и Длинный. Ещё четверых отселили от нас, пока я развлекался чтением небылиц. А в камере происходил экстренный ремонт. Вернувшись, мы обнаружили в потолке пару дополнительных зарешёченных светильников (впрочем, свет всё равно был очень плохим). В полу были грубо заделаны самые большие дыры. Над раковиной красовался новый исправный смеситель. А главное, грязную стенку заслонял огромный щит, заклеенный правилами внутреннего распорядка и выдержками из каких-то законов и инструкций. Последовательность страниц в этих документах была перепутана, некоторые листы дублировались. Было видно, что, подобно материалам дела, с которыми я сегодня знакомился, клеили эти бумажки впопыхах, не читая. Перед самым отбоем в камеру на освободившиеся места привели четверых новых арестантов. Трое из них были примерно пятидесяти лет и обвинялись по экономическим статьям.
Несколько дней прошли относительно тихо. Меня ещё по разу навестили члены ОНК и ревизоры ФСИН. Пришло несколько писем и пара передач. Украсили эту главу моей тюремной эпопеи разрешения на телефонные разговоры с Таней и с моей младшей дочерью Ксенией, полученные впервые за десять месяцев. Услышать наконец голоса любимых людей было подлинным счастьем.
Вскоре меня и двоих сокамерников вывели с вещами и после длинных переходов и пары утомительных шмонов доставили в четырёхместную отлично отремонтированную камеру недавно построенного спецблока. Ночью к нам привели четвёртого соседа. Ещё не успевший оправиться от удивления и неожиданности человек со смехом рассказал, как в его прежнюю камеру вошёл дежурный и объявил, что ищет некурящего зэка с высшим образованием и экономической статьёй. Новый сосед удовлетворял этим условиям – и вот, оказался с нами. Так администрация, решив от греха упрятать меня в тихое место, подобрала мне товарищей последнего месяца моего заключения в СИЗО «Медведь». Мои соседи были огорчены строгими порядками и отсутствием запрещённой мобильной связи, но оценили относительный комфорт и покой заключения в спецблоке.

Весь апрель и первая неделя мая восемнадцатого года прошли в процессе ознакомления с так называемым делом. Теперь из спецблока в следственный корпус меня водили не в большой толпе зэков, а одного и, как правило, минуя сборку. Если случалось ждать следователя или конвойного на обратном пути в камеру, то запирали в пустой комнатке, где можно было сидеть и читать или писать в относительной тишине. Это очень экономило время и силы. Майор Вихрь приходил три-четыре раза в неделю. Обыкновенно он приносил с собой два, реже три тома. Я добросовестно изучал каждый лист. Но поскольку девяносто процентов материалов не относились к моему периоду работы на «Платформе», а большинство не относились вообще ни к чему, то ознакомление продвигалось быстро. Я просил приносить больше материалов. Я был измучен неволей и тревогой о родных, изнывал без работы и беспокоился о том, что каждый проведённый в тюрьме день уменьшает шансы вернуться в профессию. Поэтому я стремился, насколько это могло зависеть от меня, сократить стадию ознакомления, скорее начать судебный процесс по существу обвинения и приблизить развязку пошлой комедии, в которой меня против воли назначили на одну из главных ролей. Но тактика следствия, наоборот, заключалась в затягивании и запутывании ничтожного бездоказательного дела. Бедолага Вихрь жаловался, что ему тяжело таскать больше трёх томов.
Порядок ознакомления был выстроен вне всякой логики и разумной последовательности. Явно преследовалась цель максимально затруднить мне и моей защите понимание содержания дела и сделать невозможной оценку доказательств. Попутная, но тоже важная задача, вероятно, заключалась в том, чтобы продемонстрировать прокуратуре, суду и собственному начальству, как много трудилось неутомимое следствие над этим «делом особой сложности». Существенные материалы, например, протоколы допросов свидетелей или перечень доказательств, намеренно не предоставлялись. Вместо этого мне предлагалось изучить, например, два тома отчётов о командировках Юрия Итина в период его работы в ярославском театре, или автореферат кандидатской диссертации Софьи Апфельбаум, или многолетнюю программу замечательного фестиваля «Балтийский дом», с которым у «Платформы» не было общих дел. Из тома в том кочевало по-своему лестное, но смехотворно нелепое утверждение, будто известные, с многолетней историей и огромной капитализацией компании, например ООО «Интурист», подконтрольны обвиняемым. Попадались не нам адресованные письма об изменении режима въезда и правил парковки на территории «Винзавода» или «Общий журнал по уходу за зелёными насаждениями»; копии железнодорожных билетов, приобретённых мной в десятом году, задолго до знакомства с Серебренниковым и создания «Седьмой студии». Документы каких-то неведомых ЗАО «Верхнекамская калийная компания» или «Крепёжная компания» из Уфы и ещё множество столь же бессмысленных документов, которые, по мнению следователей, должны были как-то доказывать, что часть запланированных мероприятий, например пресловутый «Сон в летнюю ночь», не были реализованы «Платформой». Эта и подобная информация никак не соотносилась с обвинением и затрудняла нам с адвокатом Карпинской формирование нашей линии защиты. Между тем собравшее этот мусор следствие не задало мне ни одного конкретного вопроса о мероприятиях «Платформы» и дважды отказалось приобщить к делу мои показания, разъясняющие структуру и особенности творческой и производственной работы проекта. Каждый лист этих материалов подтверждал заказной, лживый характер грубо сшитого дела. В каждом протоколе и в отдельных ходатайствах я заявлял, что могу и хочу читать больше, быстрее, просил ускорить процесс ознакомления. Не получив ответа, я обратился с жалобой в суд. Судья Артур Карпов, как и следовало ожидать, не усмотрел в действиях следствия признаков затягивания ознакомления.
Десятью днями раньше Карпов продлил мне срок содержания в тюрьме ещё на два месяца. Постановление Европейского суда по правам человека, признавшего обоснованной жалобу Ксении Карпинской на незаконно долгий срок моего заключения, он игнорировал. Не произвело впечатления и письмо израильского консула, которым гарантировалось, что до судебного решения об отмене любой меры пресечения мне не будут выданы дубликаты изъятого следствием паспорта. По необъяснимым причинам в тюрьме по-прежнему содержался только я, остальные обвиняемые находились под домашним арестом. Бессмысленная жестокость и несправедливость избранной в отношении меня меры пресечения вызывали недоумение и протест. Возмущение транслировала пресса, друзья стояли в одиночных пикетах, коллеги заявляли о поддержке фигурантов «Театрального дела» в своих театрах и на фестивалях, получили распространение футболки с нашими изображениями, бурлили социальные сети. Мой старинный товарищ Сергей Женовач, принимая руководство Московским художественным театром, просил руководителя якобы потерпевшего от нас Министерства содействовать облегчению моей участи. Говорят, что министр и в самом деле хлопотал. Правда или нет, но в любом случае это только усиливает абсурдность нашей истории.

Моё здоровье между тем становилось хуже. Таня и адвокаты добились разрешения на посещение гражданского врача. Доктор Ярослав Ашихмин позднее признался, что не ожидал застать меня в столь плохом состоянии. Он настаивал на госпитализации. Под конвоем меня отвезли в гражданскую больницу, на территории которой находится изолятор временного содержания для заключённых, нуждающихся в стационарном лечении. Сделали укол и отправили обратно в камеру. С учётом недавнего скандала, связанного с переводом в «Медведь», и большого внимания к «Театральному делу» моё нездоровье в случае худшего сценария, вероятно, могло стать проблемой и для следователей, и для тюрьмы.
По совокупности этих причин или в силу каких-то неведомых мне, более существенных для следствия обстоятельств, но неожиданно через неделю после решения об очередном продлении моего тюремного заключения Полковник Цахес выступил с ходатайством о переводе меня под домашний арест. Мой опыт говорил о том, что суд всегда выступает на стороне следствия. Опыт адвокатов, журналистов, наблюдателей, экспертов, бывалых зэков и прочих специалистов говорил, что решение о переводе под домашний арест можно считать свершившимся фактом. Соседи по камере помогли мне собрать книжки в сумки и разобрали вещи, которые могли бы пригодиться им, остающимся в тюрьме. Перед выездом в суд мы тепло попрощались. Басманный суд не вместил огромное количество друзей и болельщиков, пришедших встретить меня и разделить с нами радость избавления от тюрьмы. Были цветы, кто-то принёс шампанское. Добрую весть от следственной группы озвучил Юнга. Он коротко сообщил, что поддерживает ходатайство своего руководителя и просит удовлетворить его. Я и адвокаты также не возражали. Неожиданно возразила прокурор. Это было двенадцатое судебное заседание с моим участием и первое, на котором прокурор не поддержал следователя. Показательно, что это была и первая попытка облегчить мою участь, а не продолжить пытки. (Робкий демарш, в своё время предпринятый полковником Малофеевым, не в счёт; он быстро одумался и помог, хоть и неубедительно, придать фальсификациям следствия вид законности.) Прокурор Екатерина Иванникова заявила, что не видит причин выпускать меня из тюрьмы, так как обстоятельства, по которым десятью днями раньше меня решили оставить под стражей, не изменились. Ни окончание предварительного следствия, ни решение Европейского суда, ни моя болезнь не имели для неё значения. В том суде под председательством Артура Карпова, продлившем мне меру пресечения, прокуратуру представляла также Иванникова. Встречались мы и раньше. Маленькая невзрачная женщина с вечным выражением скуки и безразличия на лице всегда лишь механически озвучивала незатейливую и неизменно людоедскую позицию своего ведомства. С судьёй Евгенией Николаевой мы тоже встретились не впервой. В январе именно она поддержала противоречивые доводы следствия и продлила моё заключение. Возможно, теперь она чувствовала себя заложником своего прежнего неправосудного решения. А может, в ней заговорила склонность к садизму. Или она просто озвучивала заранее принятое решение. Как бы то ни было, Николаева постановила снова отправить меня в тюрьму. Все были разочарованы. Трудно представить, какие чувства испытывала Таня. Моё негодование стократ усиливала невозможность обнять её, успокоить, утешить, поддержать. Возвращение в СИЗО поздним вечером шокировало не только сокамерников, но и персонал. Моя кровать уже без матраса и подушки была готова принять нового постояльца, меня не ждали.
Предстояли длинные майские выходные. Я торопился написать апелляционные жалобы, опасаясь, что не успею подать их в положенный срок. Накануне суда Майор Вихрь объявил мне, что будут удовлетворены просьбы о свиданиях и телефонных разговорах; соответствующий документ он будто бы подал в канцелярию СИЗО. После решения оставить меня под стражей я очень волновался за Таню и мечтал поскорее увидеть и подбодрить её. Я попросил дежурного офицера предоставить мне разрешённый телефонный разговор. Но оказалось, что переданные Вихрем документы были неправильно оформлены и не заверены печатью. Спецчасть отказалась их регистрировать. Сочувствуя мне, дежурный пообещал оперативно направить следователю моё очередное ходатайство.
Я написал Цахесу: «Господин полковник, в течение десяти с половиной месяцев пребывания в следственных изоляторах Москвы я, моя жена и мои адвокаты регулярно обращались к вам с просьбой разрешить мне свидания и телефонные разговоры с женой и дочерью. По разным неубедительным причинам или вовсе без объяснения причин вы отказывали в этих просьбах. А когда разрешения всё-таки удавалось добиться, это происходило после унизительных, неделями длившихся согласований, отнимавших массу сил и нервов. В этих редких случаях вы давали разрешение лишь на одно свидание. В итоге за десять с половиной месяцев состоялось всего пять свиданий и два телефонных разговора. При этом вы всегда нарушаете предусмотренные УПК РФ порядок и сроки рассмотрения ходатайств. По закону я имею право на два свидания ежемесячно и на телефонные разговоры без ограничения. То есть по нормам закона и человечности за прошедшее время я мог и должен был бы получить двадцать свиданий с родными. Понимая, что вы используете надуманные причины для отказа мне в свиданиях, как инструмент давления на меня, я в начале апреля обратился в Басманный суд с жалобой на ваши действия. Заседание было назначено и прошло 27 апреля. За день до этого сотрудник вашей следственной группы майор Пётр Сергеевич Кудаев передал в канцелярию СИЗО‐4 ваши разрешения на свидания и телефонные разговоры. Учитывая последнее обстоятельство, я отозвал эту часть своей жалобы, и суд рассматривал только вопрос о затягивании вами процесса ознакомления с материалами дела. Однако шевельнувшаяся было признательность сменилась негодованием: выяснилось, что поступившие от вас в СИЗО документы оформлены некорректно, отсутствуют печати. В свиданиях и разговорах мне снова отказано. Если бы это произошло из-за халатности или некомпетентности ваших сотрудников, это было бы возмутительно. Но история наших взаимоотношений заставляет меня считать, что с вашей стороны это была сознательная акция намеренного и циничного издевательства надо мной и моими близкими. Это подло. Я был бы рад ошибаться, и если это так, то готов принять извинения и корректные разрешения на свидания и телефонные разговоры. Учитывая долгое время обращения моих ходатайств и ваших ответов, я прошу вас выдать разрешение не на одно, а сразу на несколько свиданий и разговоров, чтобы избавить моих родных, адвокатов, а также ваших сотрудников от бессмысленно долгих и утомительных переговоров».
Разумеется, на извинения я не рассчитывал. Но повторное, на этот раз корректное разрешение пришло небывало быстро, на следующий день. В нашем фарсе на короткое время случился странный поворот, составилась какая-то новая гримаса. Получивший отказ суда в удовлетворении своего ходатайства Цахес оказался как бы по одну сторону баррикады со мной. Не думаю, что идея перевести меня из тюрьмы под домашний арест принадлежала полковнику. Но в этом случае он тем более должен был досадовать, что не смог выполнить волю пославшего его начальства. Таня и адвокаты хлопотали о свидании с другой стороны. Вскоре мы с женой смогли увидеться.
События последних апрельских дней и нездоровье отняли много времени и сил. Я не смог вовремя ответить на некоторые письма. Теперь, навёрстывая упущенное время, писал сутки напролёт. Правда, из-за слабости и частого головокружения писал трудно и медленно.
Особенно важным мне казалось ответить на несколько писем незнакомых мне молодых людей, следивших за «Театральным делом». Эти письма были не только пропитаны сочувствием и солидарностью. В них были растерянность и потребность понять, как в принципе возможно в наше, казалось бы, цивилизованное время такое презрение к закону и здравому смыслу, которое правоохранительные органы и суды последовательно проявляли в моём деле? Моим новым заочным друзьям казалось, что я знаю, где лежит предел, и могу сообщить им нечто, что поддержало бы их пошатнувшуюся веру в порядочность и совесть. Это было трогательно и ответственно. Но что я мог им сказать? Я вновь испытывал необъяснимое чувство стыда за чужую, против меня же обращённую подлость, за то, что возможны фальсификации и лжесвидетельства, бесчестное следствие и неправедный суд. Что посоветовать людям, ищущим ответа на вопрос, как взаимодействовать с отвратительной и опасной реальностью? Какие уроки можно извлечь из моей истории? Я не знал тогда и не знаю теперь, кто именно инициировал «Театральное дело» и что послужило его причиной. Уверен, что изначально мне в нём отводилась сугубо прикладная функция – подтвердить обвинение в адрес Кирилла Серебренникова. Те, кто управлял марионеткой Хитрого раба Псевдола, были уверены в своём праве приговорить безвинного человека к жестокому наказанию, а затем за небольшие послабления купить его совесть, заставить лгать и оговаривать других. Они не предполагали, что опробованный годами алгоритм, основанный на насилии и страхе, натолкнувшись на небольшую преграду, может дать сбой. Ещё меньше они ожидали, что нормальный обыватель может проявить самостоятельность и следовать не командам, а собственным представлениям о добре и зле. Такое непозволительное своеволие переводило мой частный случай в режим принципиального противостояния. Размышляя, я понял, что нечаянно оказался на пути пожирающего своих граждан государственного молоха не просто мелким техническим препятствием – я нанёс оскорбление системе своей нормальностью. Представление о норме у Псевдола и Цахеса, у прыщавой шестёрки из ФСБ и у лжесвидетеля Масляевой, у сонма беспринципных прокуроров и безвольных, безгласных судей основано на признании права тупой, наглой силы и на вере в корпоративную круговую поруку. Нормальными признаются садизм, манипуляция инстинктами, отрицание очевидных фактов и признание ложных, фиктивных. Этой норме враждебны нравственность, логика и здравый смысл. То есть всё то, что считаю нормой я и, по счастью, ещё миллионы людей.
Все эти дни я чувствовал себя из рук вон плохо. К привычно повышенному давлению добавилась аритмия. Я задыхался на лестнице, когда нас выводили в прогулочный дворик двумя этажами выше.
Десятого мая меня вновь доставили в Басманный суд. Цахес повторно представил ходатайство об изменении мне меры пресечения. Не доверяя легкомысленному Юнге, который на прошлом заседании проявил совершенную беспомощность и не смог привести ни одного аргумента в обоснование ходатайства, полковник явился лично. Но и прокуратура соответственно заявленной противником весовой категории выставила более опытного бойца. Подполковник юстиции Анна Потычко производила внушительное впечатление – и званием, и фигурой, и злобно-решительным выражением маленьких глазок на суровом лице. Как и две недели назад, пришло много журналистов и друзей, почти год боровшихся за меня. Но если тогда они были воодушевлены ожиданием маленькой победы, то в этот раз все пребывали в напряжении. Уговаривали себя и друг друга: не может быть, чтобы суд повторно отклонил ходатайство. Хотя понимали: в этом суде возможно всё. Прокурор Потычко предложила судье Елене Ленской вовсе не рассматривать ходатайство на том странном основании, что решение предыдущего суда, отказавшего в переводе под домашний арест, ещё не было рассмотрено апелляционным судом и, следовательно, по мнению прокурора, не могло считаться вступившим в законную силу. Напрасно адвокаты Карпинская и Лахова призывали суд учесть не только отсутствие оснований для возвращения в тюрьму, но также мой возраст и состояние здоровья, предлагали заслушать свидетельские показания доктора Ашихмина. Потычко лишь презрительно хмыкнула в ответ. Судья Ленская смотрела прямо перед собой и, казалось, вовсе не интересовалась происходящим. Её лишённое всякого выражения, будто бы стёртое лицо было абсолютно неподвижным. Внезапно, не дослушав адвокатов, она резко поднялась и, скороговоркой сообщив, что удаляется готовить постановление, поспешно вышла из зала. Я встретился глазами с прокурором и громко сказал, что она покушается на убийство. Вернулась судья очень быстро с готовым решением вернуть ходатайство следователю без рассмотрения. Я терял сознание, выстоять на ногах оглашение краткого постановления не хватило сил, прилёг на скамью в клетке. Как сквозь сон слышал крики приставов, выгонявших публику из зала. Мне помогли встать на ноги, надели наручники и, поддерживая, отвели в конвойное помещение. Дальнейшее я помню нечётко. Приезжали одна за другой несколько бригад скорой помощи, мерили мне давление и пульс, давали какие-то таблетки, спорили друг с другом и с приставами. Наконец врач очередной бригады портативным аппаратом сняла кардиограмму. Меня уложили на носилки, к которым наручниками пристегнули одну руку, и отнесли в реанимобиль.
Позже мне рассказали, что в течение нескольких часов, пока я лежал в подвале Басманного суда, наверху развернулась отчаянная кампания за моё спасение. Адвокаты и друзья звонили врачам и министру здравоохранения. Те, в свою очередь, в суд. Включился председатель театрального союза Александр Калягин и другие известные артисты. Добивались, чтобы меня отправили не в тюремную больницу, а в специализированную кардиологическую.
В конце концов я оказался в реанимации двадцатой больницы. Через капельницу лекарства поступали в вену на левой руке, правая была прикована к кровати. В коридоре у открытой двери раздражённые конвоиры огрызались в ответ на требование врачей снять наручники, отгоняли от двери приехавших убедиться, что я жив, общественников из ОНК. Мне делали коронарографию и ещё какие-то обследования, рассказывали что-то об анатомических особенностях и сложности стентирования. Я был в блаженном полусне и не пытался понять смысла слов. Через сутки из реанимации меня перевели в отделение экстренной кардиологии. Доброжелательные и интеллигентные врачи поддержали требования адвокатов и общественности до выздоровления оставить меня в гражданской, а не тюремной больнице.
По окончании того чудовищного дня Ксения Карпинская, блестящий адвокат, лауреат медали имени Плевако, в отчаянии заявила, что готова уйти из профессии, поскольку события показывают, что защита не имеет шанса повлиять на ангажированный суд, а сам институт адвокатуры в нашей системе служит лишь ширмой, создающей видимость цивилизованного правосудия. Но уже утром следующего дня она и Таня снова боролись за меня: составляли очередную порцию заявлений, ходатайств и жалоб.
Это был Танин день рождения. Чудесные подруги ни на минуту не оставляли её без поддержки. По завершении дел они отвезли Таню в театральный пансионат в Звенигороде и устроили ей незабываемый праздник. Кто-то приезжал с поздравлениями уже в ночи после премьерного спектакля, кто-то – прямо с прилетевшего из-за границы самолёта.
В небольшой одноместной палате меня стерегли четверо бойцов конвойного полка, которые менялись каждые сутки. Я просыпался, только чтобы принять лекарства или пройти очередное обследование. В один из таких дней Тане удалось проникнуть в больницу, она видела, как в инвалидном кресле меня транспортировали из процедурного кабинета в палату. Но я её не увидел.
На пятый день я почувствовал себя лучше. С утра началось большое оживление. Кто-то негромко спорил с охраной, пытался заглянуть в палату. Мне показалось, что промелькнуло лицо Полковника Цахеса. Я принял это за наваждение. Днём случился первый сюрприз: в палату вошла Татьяна Николаевна Москалькова, российский омбудсмен. Сказала, что все (кто именно эти все, я не вполне понял) обеспокоены моим состоянием и пытаются облегчить мою участь. Спросила, что может сделать для меня. Я попросил только позвонить Тане, успокоить её и поддержать. Я знал, что через Таню новости обо мне сразу узнают моя мама, сестра и дети. Визит Москальковой сопровождался забавным и грустным казусом. Отставной генерал полиции и бывший депутат Государственной Думы, в своём нынешнем статусе облачённая большими полномочиями, она попросила конвойных оставить нас для конфиденциальной беседы, сославшись на конституционный Закон об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Но прапорщику писан не закон, а приказ ротного командира, и он наотрез отказался выполнить просьбу. Не помог и телефонный разговор Москальковой с кем-то из заместителей министра внутренних дел, который сослался на ведомственную инструкцию. Возмущённая Татьяна Николаевна долго внушала своему собеседнику, что если инструкция противоречит Конституции, то инструкцию следует отменить. Слушая эту бесспорную сентенцию, я вспоминал нашу первую встречу в «Матросской тишине». Я рассказывал тогда Татьяне Николаевне, что в угоду подобной инструкции в Следственном комитете меня допрашивали в наручниках и не позволили получить консультацию адвоката наедине, нарушая и моё право на защиту, и гарантированное Конституцией право на личное достоинство. Теперь полицейская инструкция оказалась непреодолимой и для самой государственной защитницы прав и свобод.
Ближе к вечеру с разрешением от командира конвойного полка на встречу со мной пришла возбуждённая Юлия Лахова. Стало известно, что, не сумев преодолеть сопротивление прокуратуры и суда в попытке перевести меня под домашний арест, в Следственном комитете приняли решение отпустить меня под подписку о невыезде. Такое постановление следователь вправе принять самостоятельно, без решения суда. Почему-то я воспринял это грандиозное известие спокойно, как должное. Юля была готова немедленно забрать меня из больницы. Но у следствия ничего не получается с первого раза. Почему-то в больницу доставили не подлинник, а только копию постановления. Забыли вовремя известить СИЗО о необходимости выдать мне паспорт и справку; рабочий день канцелярии между тем закончился. Не могли разобраться, в чьей юрисдикции я нахожусь – суда, Следственного комитета, полиции или ФСИН. Никто не мог принять никакого решения. В результате поздним вечером снимать охрану в больницу приехал лично командир конвойного полка. Демонстрируя необъяснимую доброжелательность, он с чувством тряс мою руку. Из СИЗО с моими документами прибыл нетрезвый майор, чрезвычайно недовольный тем, что уже после смены его оторвали от тёплой, судя по алкогольным парам, компании. Подписку о невыезде и надлежащем поведении вручил лично Александр Андреевич Лавров, Полковник Цахес. Молодая мама Юля торопилась к своему малышу. А ей на смену по московским пробкам спешила ко мне моя Таня. Мы были готовы немедленно покинуть больницу. В реальность нас вернул улыбчивый, искренне сочувствовавший нам доктор. Он напомнил, что я нахожусь в отделении экстренной кардиологии и в моём состоянии он, разумеется, не может меня выписать. Он великодушно разрешил Тане задержаться, несмотря на то что время посещений давно закончилось. Впервые за одиннадцать месяцев мы с женой провели вечер, держась за руки и без соглядатаев.

Одиннадцать месяцев – кажется, не так много. Но за это время я забыл какие-то простые вещи. Несколько дней понадобилось, чтобы вспомнить расположение кнопок на клавиатуре компьютера и функции мобильного телефона. Мой ноутбук, объявленный вещественным доказательством, всё ещё оставался у следователей, поэтому Вася Яблоков одолжил мне свой, на время. Время оказалось долгим. Бывалый Васин «Мак Про» оказал мне неоценимую услугу, нагрузив свою память фотокопиями сотен томов дела. Мои комментарии и записки, заявления, ходатайства, а также эта книжка созданы с его помощью. За время моего отсутствия Таня сумела закончить начатый ещё до моего ареста ремонт в нашей новой квартире и обставить её самым необходимым. Вдвоём мы скромно отметили новоселье. Помечтали о том, как будем принимать гостей. Увы, очень скоро я снова оказался в кардиологическом центре. Проблемы со здоровьем испытывала и Таня – сказались усталость и нервное перенапряжение. Но мы были счастливы тем, что снова вместе. Это окрыляло, питало силы и веру в благополучный исход нашего и нелепого, и страшного приключения. По-прежнему рядом были друзья. Проведать нас по очереди приехали мама и сестра, в короткий свой отпуск – младшая дочь с мужем. Вернуться к нормальной жизни мешало только продолжающееся безумное следствие.
Знакомиться с материалами дела мне теперь предстояло в Следственном комитете.
Мой первый самостоятельный, без конвоя и наручников, визит в дом номер два по Техническому переулку случился тёплым майским днём. От метро я шёл пешком. Лениво позвякивал проезжающий трамвай, негромко шуршали шины неспешных автомобилей. Было солнечно и сонно. По мере приближения к бюро пропусков что-то менялось. Как будто воздух становился более плотным и вязким. За воротами остались беззаботные прохожие. Голоса немногочисленных в тот день посетителей звучали тихо и напряжённо, глаза прятались от встречных взглядов, лица были озабоченны, движения скупы.
На этом скучном фоне выделялась хрупкая фигурка очень молодой женщины. В руках – большой плакат «Требую приёма у Председателя СК РФ А. И. Бастрыкина». В глазах – смесь крайней усталости и весёлой решимости. Она поздоровалась со мной просто, как с давним знакомым. Даша Аполонская в самом деле знала меня. Много людей сочувственно следили и продолжают следить за «Театральным делом» и моими злоключениями. Но заинтересованность Даши особенная, можно сказать, личная. Её муж Александр два года провёл в «Матросской тишине», в том же шестом корпусе, где несколько месяцев просидел и я. Даша, верная жена и мама троих маленьких детей, уверенная в его невиновности, всё это время отчаянно сражалась с судебно-следственным голиафом. Выстаивала очереди в присутствиях, писала ходатайства и протесты, носила передачи, ежедневно вела блог, пытаясь привлечь внимание общественности. Через полгода после нашего с Дашей знакомства её мужа отпустили из СИЗО под домашний арест. А ещё через полгода суд приговорил его к реальному сроку. Вскоре Даша родила четвёртого ребёнка. Молодая многодетная мама продолжает в одиночку сражаться за своего мужа и свою семью. В своём блоге она описывает так много грубых процессуальных нарушений, допущенных следствием и судом, что заказной характер дела Александра Аполонского не оставляет сомнений даже у тех, кто не знает его подробностей.
Еще до знакомства с Дашей и её историей я узнал много людей, которые, попав в следственный молох, остались один на один с системой. О них не сообщает широковещательно пресса, в их поддержку не направляются сотни ходатайств и поручительств, не организуются пикеты и акции. Они могут рассчитывать только на свои силы и преданность самых близких людей. Теперь я знаю, что любое письмо в тюрьму, любой знак внимания и сочувствия может оказаться для них спасительным. И ещё я думаю, что, если мы одержим победу в своём «Театральном деле», это может укрепить их надежды и веру в справедливость.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении обязывала меня не покидать места постоянного проживания. Но через запятую сообщалось, что я должен являться для участия в следственных действиях. Поскольку я зарегистрирован и живу в подмосковном Одинцове, а Следственный комитет и суды находятся в Москве, то, выполняя требования одной части обязательства, я неизбежно нарушал бы другую, и наоборот. Моя просьба непротиворечиво сформулировать условия подписки осталась без ответа. Также было не вполне ясно, что именно подразумевалось под «ненадлежащим поведением». Не оставалось ничего другого, как ориентироваться на общепринятые представления о добром и должном. Но, имея дело с правоохранительной системой, нельзя быть уверенным, что её и наши представления окажутся близкими.
В тесном захламлённом кабинете следователей не было рабочего стола, держать документы приходилось на коленях, делать выписки – на весу. Поэтому мы с адвокатами фотографировали доступные нам тома и потом читали дома. Доступным было не всё. По-прежнему следователи прятали от нас материалы, которые могли иметь существенное значение для подготовки к защите, а также те, в которых находились фальсифицированные или недостоверные показания лжесвидетелей.
Накануне госпитализации в Институт кардиологии имени Мясникова я позвонил Розовощёкому сообщить о том, что несколько дней смогу изучать материалы только по фотокопиям. От него, фактически случайно, узнал, что на следующий день назначено заседание суда. Ни я, ни адвокаты не получили уведомления. Теперь следствие через суд требовало ограничить нас в сроках ознакомления. Из-за моей болезни дата заседания трижды переносилась. Розовощёкий приезжал проверять, действительно ли я в больнице, и торопил врачей с окончанием лечения. Трудно сказать, что именно заставляло следствие спешить. Возможно, кто-то наверху решил, что пора прекратить слишком резонансное «Театральное дело», и группа Цахеса выполняла распоряжение. Возможно, они начали опасаться ответственности в случае, если я сумею доказать, что меня противозаконно удерживали заложником. А может быть, просто мстили за то, что были вынуждены отпустить меня из-под стражи. Но скорее всего, Лавров понимал, что бездоказательное и нелепое дело развалится в суде, если дать возможность обвиняемым и адвокатам подготовиться к защите. Поэтому перед ним встала задача создать максимум препятствий в реализации нашего права на защиту. Находясь в тюрьме, я читал в среднем по два тома в день. Судья Карпов в апреле признал темп ознакомления разумным и эффективным, а в действиях следователя не усмотрел признаков затягивания. Выйдя из тюрьмы, я стал ежедневно, даже находясь в больнице, читать в среднем четыре тома объёмом по двести пятьдесят листов каждый. Предстояло изучить больше полутора сотен томов. При этом знакомство с доказательствами, фото- и видеоматериалами, показаниями большинства свидетелей ещё не началось. Цахес попросил суд ограничить нас тремя неделями. Судья Юлия Ринатовна Сафина от щедрот добавила ещё три. Она сочла, что, имея высшее образование и навык работы с юридическими документами, я и адвокаты справимся. Но объективно этого времени было недостаточно, к тому же на деле следствие продолжало препятствовать доступу защиты к материалам, поэтому мы подали апелляционную жалобу. В рассмотрении нашей жалобы участвовала прокурор М. А. Бобек. Она продемонстрировала пример характерной прокурорской логики и отношения к закону. Судом были приобщены подписанные следователем протоколы ознакомления. Эти документы опровергали ложь, которую тот же следователь изложил в своём ходатайстве. Прокурор Бобек заявила, что, несмотря на то что документы опровергают доводы ходатайства, она не видит причин не доверять следствию. Мы привели статистические данные о средней скорости чтения нормального взрослого человека и несложные арифметические вычисления, которые доказывали невыполнимость назначенных судом сроков. Прокурор Бобек назвала этот довод надуманным и была крайне удивлена, услышав, что мы планируем не просто читать материалы, но анализировать их и писать возражения. Наконец я выложил перед судом несколько десятков своих оставшихся без удовлетворения ходатайств с просьбой предоставить материалы дела в подшитом и пронумерованном виде. Я просил обязать следствие выполнить это требование закона. Прокурор Бобек, обладатель диплома о высшем юридическом образовании, дослужившаяся на ниве защиты законности до подполковничьих звёзд, заявила, что в УПК нет такого положения. Открыв кодекс, сославшись на издание, назвав номер страницы и указав абзац, я зачитал выдержки из двести семнадцатой статьи, которая прямо обязывает предоставить материалы и запрещает ограничивать обвиняемого и защиту во времени, необходимом для ознакомления с ними. Тупо глядя перед собой, прокурор Бобек сказала, что это неправда.
Апелляционный суд, несмотря на возражения прокурора, вернул дело об ограничении времени ознакомления на новое рассмотрение в Басманный суд. Ещё через неделю судья Карпов по новому ходатайству Цахеса назначил последнюю дату окончания знакомства с делом – первое сентября.
Между тем следователи были вынуждены небольшими порциями выдавать нам тома с протоколами допросов свидетелей, в том числе – допроса Ларисы Войкиной, проведённого годом раньше. Этот протокол несколько раз следствие предоставляло в суд для обоснования ходатайств о продлении меры пресечения; я и адвокаты были с ним хорошо знакомы. Но позже Цахес и Розовощёкий, видимо, решили, что этим показаниям следует более убедительно доказывать мою вину. Ничтоже сумняшеся блюстители закона совершили подлог: переписали протокол и поместили его в дело. Таким образом, у нас в руках оказалось две версии протокола допроса, проведённого в одно и то же время, но с различным содержанием. Например, в первом варианте протокола Войкина говорила, что сомнительного происхождения деньги друзья Масляевой начали привозить в конце 2012 года. Но я в это время уже не работал на «Платформе». Поэтому в поддельном варианте указан апрель. Это и ещё несколько отличий кардинально искажали смысл показаний и усиливали ложное обвинение в мой адрес. При этом оба протокола датированы одним числом и временем, скреплены подписями свидетеля Войкиной и следователей Лаврова и Васильева. Но из второй версии исчезло упоминание об участии в допросе оперуполномоченного ФСБ. Отсутствует в ней и подпись адвоката. Фальсификация доказательств по уголовному делу – это преступление. Уголовный кодекс предусматривает за него наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Вновь сочинённая версия протокола, в отличие от предыдущей, позволяла подозревать мою причастность если не к мнимому хищению, то к незаконному обналичиванию денег. Пусть косвенно и неубедительно, но хоть как-то следствие могло оправдывать этим моё содержание в тюрьме. Обнаружив подлог, я заявил отвод следственной группе и направил заявление о преступлении в Генеральную прокуратуру и ФСБ. Оба ведомства перенаправили заявление в Следственный комитет, вероятно рассчитывая, что следователи высекут себя сами, подобно унтер-офицерской вдове. Но крепкое офицерское братство своих не сдаёт. Начальник Цахеса генерал Голкин долго молчал, нарушая предусмотренный регламентом Комитета срок. Потом ответил на «обращение». Несколько раз мы указывали генералу, что мной подано не обращение, а заявление о преступлении. Генерал настаивал на своём термине. Упорство объясняется просто. По заявлению о преступлении Следственный комитет обязан провести расследование и по его результатам возбудить уголовное дело либо отказать заявителю в возбуждении дела. Формальный отказ даёт возможность оспорить решение, поэтому генерал и избегал внятного ответа. Я настаивал. И наконец получил постановление, затмившее даже логические перлы прокурора Бобек. Лавров и Васильев не были, как положено, допрошены, генерал ограничился чтением их рапортов. В этих рапортах сообщается, что проект протокола допроса не был сразу уничтожен, а был ошибочно скопирован и приобщён к материалам, направлявшимся в суд. Замечу в скобках, что ошибочно эта копия направлялась в суд трижды. И трижды на её основании суды принимали решения о судьбах людей. Ещё замечу, что понятия «проект протокола допроса» не существует, его не может быть по определению. И вряд ли можно назвать проектом документ, подписанный пятью участниками этого следственного действия. Генерал вслед за своим подчинённым утверждает, что свидетель была дополнительно допрошена. Его не смутило, что согласно фиктивным протоколам дополнительный допрос происходил ровно в то же самое время, что и основной. В перерыве какого-то из этих одновременно происходящих допросов свидетель якобы сама решила дополнить свои показания сведениями, меняющими смысл на противоположный. Адвокат свидетеля, согласно постановлению, не смогла из-за занятости принять участие в дополнительном допросе. Но при этом поставила подпись под основным допросом, завершённым на десять минут позже дополнительного. В постановлении ещё много беспомощного вранья. Остается догадываться, это жуликоватые подчинённые выставили генерала тупицей, а на самом деле он не таков, или он сам, в меру своих интеллектуальных возможностей и душевных качеств, породил эту галиматью? Я попытался через суд обязать Следственный комитет рассмотреть заявление о преступлении. Жалоба попала к судье Карпову. Неподкупный Артур предсказуемо отказался её принять. В Мосгорсуд наблюдать за законностью при рассмотрении жалобы на решение Карпова явилась прокурор Бобек. Моё предположение, что в решении Карпова, фактически покрывавшего преступления следователей, усматриваются признаки заинтересованности, Бобек с тихим укором отвергла. Апелляционный, а затем и кассационный суды отказались обязать Следственный комитет расследовать преступление, совершённое следователями. По сути это означает, что за отдельными категориями населения суды признают право на преступление. Что ж, есть ещё Верховный суд. А поговаривают, что и высший.
Тем временем завершился срок, отведённый нам для изучения материалов дела. В день подписания документов об окончании ознакомления выяснилось, что в деле не двести пятьдесят восемь томов, как было объявлено, а двести шестьдесят три. В дальнейшем, уже в ходе судебного расследования, появились ещё несколько томов дополнительных материалов.

В сентябре прокуратура вручила нам обвинительное заключение. И вскоре Мещанский суд приступил к рассмотрению дела по существу. Разумеется, никто из обвиняемых не признал себя виновным. Обычно подсудимые дают свои показания в конце процесса. Я, Кирилл Серебренников и Софья Апфельбаум дали показания первыми. Объясняя суду своё решение, я сказал, что отвечаю за каждое слово, сказанное мной в предварительном расследовании, и мои показания не могут измениться в зависимости от обстоятельств судебного слушания. Это принципиальная позиция. Мой допрос в суде продолжался четыре восьмичасовых рабочих дня. Мы с адвокатом Ксенией Карпинской были хорошо готовы, а главное, уверены, что за нами правда. Началось оглашение материалов дела, свои доводы представляли государственные обвинители. Создалось впечатление, что, в отличие от нас, прокуроры видят дело впервые и неуверенно в нём ориентируются. По ходу слушания мы просили не перечислять, но оглашать полностью некоторые материалы, имеющие с нашей точки зрения принципиальное значение, и комментировали их. Огласив примерно половину материалов, суд стал опрашивать свидетелей со стороны обвинения. Их показания по существу превратились в свидетельства защиты – ничего из сказанного ими о нашем проекте невозможно было истолковать как преступление. Было рассмотрено большое количество фотографий и видеозаписей, опровергающих утверждение, будто какие-то мероприятия «Платформы» не были реализованы. Судья приняла решение о проведении дополнительной экспертизы. В связи с отсутствием в деле большого количества бухгалтерских документов, данные которых не были восстановлены следствием, она поставила перед экспертами вопрос, какой объём финансирования объективно необходим для реализации такого проекта, как «Платформа». Анализ сотен спектаклей, концертов, выставок, образовательных и дискуссионных программ, проведённый государственным экспертным центром при Министерстве юстиции, показал, что рассчитанный по среднеотраслевым тарифам и ценам соответствующих периодов уровень расходов должен существенно превышать размер выделенной проекту субсидии. Это говорит о профессиональном, рачительном управлении проектом и вряд ли допускает возможность хищения.
Процесс длился без малого год. В апреле Мосгорсуд отпустил Серебренникова, Апфельбаум и Итина из-под домашнего ареста. А в сентябре всем обвиняемым, включая меня, отменили подписку о невыезде. Одновременно судья Аккуратова вернула дело на доследование, поскольку нашла в нём много противоречий, не позволяющих продолжать его рассмотрение в суде.
Однако Московский городской суд по ходатайству прокуратуры отменил это решение, и теперь Мещанский суд уже в новом составе продолжает бесконечный, безумный процесс.