Глава пятая
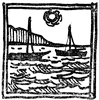
Прямо не верится, но, если пораздумать, — пожалуй, так оно и есть. Ведь девчонка всю жизнь торчит в этой дыре… Проходя по склону Четырех Крестов, он задержался, пристальнее разглядывая Энкрусихаду. Родилась, говорит, там… Большой каменный дом под черепичной крышей, весь в купах деревьев, среди лугов, пашен и тополиных рощ. Ограды никакой — ни глинобитной, ни сложенной из камней. За домом арендаторов, поодаль от конюшен — заброшенных, полуразвалившихся — протекает река. Печальный вид у этого дома! Мигелю он не понравился. Вдруг у него возникло странное чувство. Что-то вроде сострадания. Да, он пожалел эту девушку у ручья. Она, должно быть, очень одинока. Друзей у нее нигде нет. Ни в Эгросе, ни здесь, в поместье. «В семье у нас одни старики», — сказала она. А когда узнала, что он родился у самого моря, глаза у нее так и загорелись. «Море», — протянула она, словно это было нечто диковинное. Словно это волшебство, в которое не смеешь поверить. Мигель ухмыльнулся. Видал ли он море? Спросила тоже! Да у него всю жизнь море перед глазами стоит! Море, как бы это сказать, — фон, аккомпанемент его жизни. «Как музыка, что звучит в кино за кадром». Мигель воткнул топор в колоду, задумался.
Лес обступал его плотной стеной — сумрачный, угрюмый. Доносился стук топоров, скрежет лесопилки. Слышались голоса людей, песенка Санты — сквозь хриплый упорный кашель… Мысли не повиновались Мигелю, были далеко, наперекор его воле.
Обычно море сплошь рисуют синим. Но не всегда оно синее. В тот день оно синим не было. Они с Чито сидели на пляже и глядели на море. Только-только взошло солнце. День обещал быть знойным, но на берег набегал ветерок, приятно шевелил волосы. Это было через несколько дней после того, как утопили людей, связанных цепью.
(С уверенностью, впрочем, не скажешь когда. Время трудно было соразмерять, соотносить, укладывать в единый поток. Но примерно он прикинул — много времени не должно было пройти.)
Худой голой рукой Чито указывал на море. Он щурился от яркого блеска волн, а жесткие черные лохмы падали ему на глаза, и ветер развевал их. Когда мать прибежала за Мигелем, он слушал рассказ Чито, внимательно глядя на друга. Мать прибежала за ними, потому что надо было уезжать. Уезжать! Они с Чито запрыгали от восторга. Уезжаем! В другое место! Далеко! Переезжали три семьи: Чито, их и Монго. Дядька Чито, младший брат его отца, уже давно живший в Барселоне, прислал письмо. Он звал родных к себе. «Приезжайте, — писал он, — в ваших краях не прокормитесь, а здесь, в городе, побеждает революция… Нужны добровольцы для Арагонского фронта». И еще что-то про бригаду Аскасо[19].
Они уехали в большом грузовике, размалеванном вдоль и поперек красной краской — лозунгами; кумачовый флаг полыхал на ветру. Мигель помнит, как суетились и хлопотали женщины, увязывая в узлы старую одежду; узлы побросали в грузовик, а наверх забрались они с Чито да Мари Пепа, младшая девочка семейства Монго. Отец, как всегда, говорил без умолку, кричал громче всех, всем распоряжался и командовал. Высокий, с желваками бицепсов на крепких руках, обросших рыжей шерстью, которая отливала золотом на солнце. А на запястьях обеих рук — часы. Да, часы на обеих руках, это он хорошо помнит. Зато раньше совсем никаких не было. Отец Чито, по прозвищу Андалусец, был безносый. На месте носа — просто гладкое место, как будто нос напрочь оттяпали ножом. Из-за этого они с Чито прямо покатывались со смеху: «Чито, твоему отцу нос откусили». Две темные дырки вместо носа, как у скелета. Братья Монго все были приземистые, с черными как уголь волосами, с длинными и острыми зубами — будто у шакалов. Это Монго схватили ночью священника и приволокли на пляж. Все это знали. Мигель испытывал к ним какое-то брезгливое чувство, хотя сам не понимал почему. Лица у них были смуглые до черноты. Он побаивался их — по спине пробегал холодок. Из-за этого он не любил играть с Мари Пепой. Два года назад ее маленький братишка умер от крупа. Завернув малыша в фартук, мамаша Монго ходила от порога к порогу и просила денег на похороны — с застывшим, как будто окаменевшим лицом. Постучалась она и к матери Мигеля, и та ей сказала: «Тебе я последнее готова отдать». И вправду дала немного денег, он своими глазами видел. А Монгиха даже спасибо не сказала, считала, видно, не за что, и поплелась к бару в казино, где собирались по вечерам богачи — пить вермут с маслинами. Мигель, высунувшись из окна, глядел ей вслед. Ветер задирал ей подол, так что видны были черные чулки над белыми альпаргатами; ветер трепал спутанные, нечесаные космы — пучок совсем сбился на сторону… А на руках — трупик, завернутый в полосатый передник, из которого торчали крохотные ступни — пожелтевшие, с лиловыми ногтями. Мать выбежала на порог и закричала: «Не ходи туда, Монгиха, не надо!» Но Монгиха словно бы и не слыхала — нема и глуха была она в тот вечер. Это Монго подожгли дом дона Панчито, а самого дона Панчито выволокли на улицу и до полусмерти избили палками, а потом бросили в море. Папаша Монго целых два года не поднимался с кровати — он упал с верфи и сломал себе позвоночник. Дети — тогда еще совсем маленькие — бродили по пляжу с мешком, подбирая невесть что, всякий хлам. Монго всех задирали, чуть что хватались за нож или за булыжник, и от них нестерпимо воняло. Ему казалось, что воняет от них оплывшей свечкой, потому, быть может, что это они убили священника — ночью, на пляже. А потом рассказывали, как священник молча опустился на колени, а они все спрашивали у него: «Помнишь то-то да то-то, другое да третье?» Но он молчал. Не сопротивляясь, покорно подставил голову. И Монго признали: «Хватило все-таки духу, не дрогнул перед смертью. Не распускал слюни, как другие, не хныкал. Бесстрашней всех оказался». У отца, Андалусца и папаши Монго, когда они ехали в грузовике, торчали за поясом пистолеты, а еще у них были винтовки и часы. И все были такие удалые, развеселые, а он и не знал вовсе, что такое война; больше всего это было похоже на гулянье во время церковного праздника. Да только примешивалось к этому гулянью что-то болезненное, надрывное. Все надрывно гоготали, хватаясь за животы от смеха, и роняли соленые, как морская вода, словечки. Словечки эти скатывались с губ сухими, скрипучими песчинками. Переезд был долгим. Целых два дня, а может, и больше. Иногда по дороге останавливались. Дети хотели пить, спать, есть, им нужно было размять ноги, помочиться, подраться. У Мари Пепы ноги были длинные, жилистые — ноги девочки, которая работает через силу и много потеет. (Черные жидкие косички Мари Пепы, крысиные хвостики, сальные, стянутые на затылке веревочкой… Горло забинтовано — Мари Пепа то и дело теряла голос и хрипела, как будто в гортани у нее запеклась кровь.) По ночам их троих — его, Чито и Мари Пену — укладывали на свернутые тюфяки и сверху накрывали одеялом. Он заметил, что Чито и Мари Пепа руками шарят друг у дружки по телу и шушукаются. Но он еще ничего в этом не смыслил, а потом, когда подрос, вспоминал со смехом и какой-то тайной грустью. По ночам становилось страшно, и однажды Мари Пепа отчаянно заревела, но папаша Монго пригрозил ей прикладом, и она стихла. Все трое забивались под одеяло, тихонько, как мыши, только глаза одни видны, и в них отражается необъятное звездное небо. Мари Пепа рассказывала своим сиплым, чуть слышным голоском, как старшие ее братья, Рипо и Адольфито, нацепили на себя облачение святой Магдалины — длинную мантию из фиолетового шитого золотом бархата, а в руках притащили домой волосы святой, которые так напугали Мари Пепу. И, слушая ее рассказ, мальчики тоже дрожали от страха: святая оказалась просто куклой с нарисованными глазами, которые никогда не закрывались, а вот волосы у нее были «всамделишные». И волосы эти нагоняли больше страху, чем все вопли и выстрелы, даже чем покойники. (Когда случалось ему дотронуться до волос святой Магдалины, там, в портовой часовне, по спине пробегал острый холодок.) Как-то раз грузовик остановился. Уже смеркалось, и, осветив фонарями кювет, они увидали распростертого на обочине человека с восковым лицом и сгустками черной крови в спутанных волосах. Рипо Монго выругался и пнул труп сапогом в лицо. Потом он снова залез в машину, и они покатили дальше, оборачиваясь назад и грозя мертвецу кулаками. Монгиха причитала: «Помнишь сыночка моего, пес проклятый, помнишь, как он умер от удушья, потому что не хватило денег на сыворотку? Помнишь сыночка, моего, которого заживо раздуло как утопленника, а я ходила с ним на руках от порога к порогу и не проронила ни слезинки, ни словечка во всю неделю? Помнишь, как я делала аборт за абортом, как ходила брюхатая и не видела ничего, кроме хлеба да селедки, когда Монго мой свалился с верфи, а дон Панчито не заплатил ему страховку? Помнишь моих сыновей, которым пришлось воровать, губить себя, потому что не годились они для работы, заморыши, — зубы гнилые с голодухи, — и никто не хотел нанимать их, все говорили: „Ой, только не этих, это отродье Монгихи, разбойничье семя!..“ Помнишь, пес поганый?» И много еще невесть чего городила Монгиха, пока сыновья не велели ей замолчать, а муж подставил синяк под глазом. Они кричали ей: «Заткнись, не растравляй душу! Что за дуры эти бабы! Нашла время нюнить, ведь мы всем отомстили, и с этим навсегда покончено!» И Мигель подумал, что правда, счеты сведены. Но таковы уж женщины, его мать тоже была такая. Вдруг, когда все, казалось бы, довольны жизнью, они заводят бесконечные жалобы и оплакивают то, о чем все уже позабыли. Ведь они теперь едут на фронт, а это вроде праздника или ярмарки! Так хватит этой Монгихе ныть! И он обрадовался, когда папаша Монго подставил ей фонарь и она наконец замолчала. Они с Чито хихикали и щипали Мари Пепу — девочка задумалась, разинув рот, а на кончике носа у нее повисла капля.
Он не помнит, когда приехали в Барселону. Спал, наверное; мать взяла его на руки и так несла — хотя ему уже стукнуло восемь. Росту он был маленького, тщедушный. И все кругом говорили: «Что за жалость, Мигель такой ладный, красавчик прямо, а вот ростом не вышел, не в отца!»
События тех дней перепутались у него в памяти. Отчетливо представить их себе он не мог. Одно можно было сказать с уверенностью: отец, Андалусец и папаша Монго с сыновьями ушли на фронт — добровольцами в бригаду Аскасо. Но когда и как — этого не припомнить. С тех пор он видел отца только изредка, считанные разы, и от раза к разу все больше отвыкал от него. Женщины и дети всех трех семей поселились в доме на улице Хероны — тенистой, с развесистыми платанами, но все-таки жаркой. Дом, в котором их разместили, был реквизирован НКТ[20]. Кроме них, в квартире жила еще семья мурсийцев. Всего, считая малышей, набралось человек восемнадцать. Квартира была большая, очень красивая. Он это отлично помнит. Раньше он и не подозревал, что бывают такие дома, огромные квартиры с высоченными, широкими окнами и дверьми, с чудной мебелью. Правда, когда они приехали, квартира была уже порядком разграблена, но на их с Чито долю еще оставалось немало — пропасть всяких находок и сокровищ. «Это был дом богачей», — думал он порой. И решил про себя: «Странные люди эти богачи». А однажды ему пришло в голову: «Говорят, время богачей кончилось, перебьют их всех, и больше никогда не будет богачей. А я хочу разбогатеть, когда вырасту». Эти мысли он скрывал от всех, даже от Чито, затаил глубоко в сердце, для себя одного. Потому что мир богачей нравился ему больше, чем мир бедняков. Останется же где-нибудь на свете уголок, где уцелеют богатые, где их не перебьют. И он сбежит туда, пусть в этом не сомневаются: разыщет такое место и сбежит. Все в этой квартире было удивительным, захватывающим, а порой — таинственным. «Гляди, Чито… что это?»
(Мигелю и теперь еще досадно вспоминать, что до восьми лет он ни разу не видал ванной комнаты.)
Его мать и мурсийцы хранили в ванной уголь и картофель, а еще держали взаперти трех куриц, которые клевали зерно и шелуху на белом кафельном полу. Там же все ходили по нужде. Но большей частью прямо на пол — так им было привычней. В особенности мурсийцам — деревенским жителям; о такой роскошной «конюшне» они раньше и мечтать не смели. В той квартире Мигель еще больше сдружился с Чито, поначалу, во всяком случае. Спали они в одной кровати со старым дедом Монго. Дед будил их по ночам храпом и сопеньем, плевался во сне и пачкал простыни. Чито брезгливо кривился, но Мигелю было только смешно. Деду Монго подкладывали под простыни щетку, чтобы кололо бока, потому что он привык в Алькаисе спать на соломенном тюфяке прямо на полу. Зато женщины наслаждались пружинными матрацами и особенно постельным бельем, которое делили под смех, крики и брань. Он вспоминал, как блестели от удовольствия глаза матери, когда она складывала простыни в стопку, болтая с Монгихой, а та, подперев щеку кулаком, хмуро глядела на нее и поджимала сухие губы. Мать смеялась, размахивала руками, а Монгиха говорила: «Поживем — увидим». Мигель и Чито, матери их, и обе дочери Монгихи — Мари Пепа и старшая, Хулия, которой почти стукнуло шестнадцать, — совсем позабыли Алькаис: словно и не было никогда большого песчаного пляжа, пустынного, с пятнами солнца, похожими на пригоршни известки, не было гула моря в ушах, сверкания волн. Забыли и рыбачью гавань с часовенкой, ныне сожженной дотла, и кладбище за ослепительно белой оградой. Забыли все, кроме Монгихи, всегда хмурой, насупленной, ожесточенной. Однажды, вскоре после приезда, она поглядела на мать Мигеля (одну лишь ее она, казалось, и любила) и брякнула: «Хочу вернуться назад». Мать стала бранить ее: «Да ты, никак, спятила, Мануэла, опомнись!» Но Монгиха все твердила свое: «Вспомни, чего стоило мне насбирать денег на похороны». Идти обратно было безумием, но, как ни старалась мать выбить у нее из головы эту дурь, Монгиха в конце концов собрала пожитки и двинулась в путь. (Вот она бредет среди песка и агав, меж черных кипарисов. Бредет спотыкаясь, почерневшая, окаменелая. Завернув в передник смерть. Древняя, как камни, как дорожная пыль, как слепая дряхлая сука…) Добралась ли она до Алькаиса, они так никогда и не узнали — больше ее никто не видел.
В квартире было шумно, сутолочно. Женщины то и дело бранились, как в Алькаисе, но здесь это больше бросалось в глаза. Хулия завела себе приятельниц из мастерской, где шили обмундирование для фронта. Теперь Хулию стало не узнать. На хороших харчах — такие им раньше и не снились! — она отъелась, щеки порозовели, зеленоватый, землистый цвет лица, отличавший раньше всех Монго, сменился свежим румянцем. У Хулии были большие, задорно блестевшие, темные глаза и сочные, красные губы. Она повеселела, защебетала. Частенько ходила гулять с парнями из молодежной организации, домой возвращалась поздно или вовсе не приходила ночевать. В ее компании были совсем юные девушки, такие, как она, и молодые парни. Смуглые милисианос[21] с густыми длинными бакенбардами. В синих комбинезонах, небрежно расстегнутых на груди, так что видны черные жесткие волосы. Порой они поднимали в доме невообразимый гвалт, пили, орали песни, курили и звали к себе мать Мигеля, которая была еще молода и хороша собой. Она шла к ним, а на другой день всегда бывала не в духе и срывала дурное настроение на нем, если он попадался под руку. Милисианос приносили в дом сыр и консервы: тунец или курица в томате, паштет из гусиной печенки, сгущенное молоко… Словом, житье было отличное. Но по ночам иногда становилось грустно. Несколько раз (он точно не помнит сколько) отец приезжал навестить их. Целой толпой приезжали мужчины и женщины с фронта в захваченных у богачей машинах и все скопом вваливались в квартиру. Мигель бросался к отцу на шею, и мать тоже; отец привозил еду и рассказывал удивительные вещи. Он говорил без умолку, и все, кто был в квартире, сбегались послушать, обступали его кольцом. Приходили и другие фронтовики, все вместе ели и пили. Отец, как всегда, был в центре внимания, все смеялись, слушая его рассказы, и подчас даже хлопали в ладоши. Женщины, приезжавшие вместе с отцом, тоже были с фронта. В таких же синих комбинезонах, как мужчины, с винтовками и подсумками. Довольно странный праздник этот фронт, думал Мигель. Ему хотелось самому отправиться туда и все хорошенько разузнать. Но детей, как видно, на фронт не брали. Мурсийцы, у которых двое мужчин были на фронте, набрасывались на отца Мигеля с расспросами: «Вы там не встречали нашего Маноло или Кристобаля?» Но таких никто не знал. И женщины потом пили и ели, насупившись, исподлобья поглядывая друг на друга. Без конца вспоминали деревню, и мать говорила, что Монгиха правильно сделала, вернувшись туда. Но сами оставались в Барселоне. Андалусец — тот, безносый, — тоже являлся на побывку раза два. Он не поднимал такого шума, как отец, напротив, заметно поскучнел: по всему видно было, что не сладко ему приходится. Когда отец приехал в последний раз, он подбросил сына в воздух и крикнул: «Ого, как Мигель вырос!» То были последние слова отца, которые запомнил Мигель. Мать, стоя в дверях, смотрела на них и поддакивала: «Да, ужас как быстро вытягиваются ребятишки. В этом возрасте оно всего заметнее. Не повидай месяц-другой, так и не узнаешь. Со мной тоже так было, когда я ходила на заработки в Броку». Он потом всегда вспоминал эти слова, бог весть почему. Больше они отца не видели — через две недели он погиб на фронте: пуля пробила ему череп. Они узнали об этом не сразу: об отце долго не было никаких известий. Мать таяла на глазах и все чаще уходила куда-то из дому. (Огромный город — такой огромный, что кружилась голова, — сильно изменился с тех пор, как матери водили Мигеля и Чито полюбоваться широкими проспектами, а то и поглазеть на торжественные похороны или на демонстрацию, тонувшую в море флагов и плакатов. Под бравурную музыку, от которой мурашки пробегали по спине, все громко пели, а иногда матери поднимали его и Чито вверх — пусть хорошенько разглядят поднятые кулаки демонстрантов или пышный гроб, покрытый знаменем.) Теперь совсем не то… Теперь если мать брала его на улицу, то сердито дергала за руку, а когда он не поспевал за ней, волочила за собой почти силком. Пришла зима, деревья стояли голые. Мигель с матерью ходили по разным местам. В деревянные домишки с флагами и решетками на окнах или в большие каменные здания, где их заставляли долго ждать и где полно было людей в затхлой от сырости одежде и грязных, облепленных глиной альпаргатах. И повсюду валялись винтовки, сумки с патронами и синие комбинезоны. Повсюду было одно и то же: они расспрашивали и расспрашивали, они хотели узнать, что случилось с отцом. И один человек сказал им: «Да что можно узнать об этом анархическом фронте?»[22] Мать расплакалась, крепко схватила Мигеля за руку и потащила домой. Однажды явился Андалусец. Это было под вечер. У него открылась язва желудка, и он больше не мог сражаться. Его уложили в постель (черные дырки носа казались двумя угольками), и жена дала ему на живот бутылку с горячей водой. Андалусец все чего-то боялся, и они заперлись в одной из комнат, две семьи — родня Андалусца и Мигель с матерью. Андалусец шепотом рассказал им, что Буэнавентура Дуррути[23] приказал расстрелять женщин — милисианас. А в папашу Монго с сыновьями — все трое всегда были неразлучны — угодила мина; их разнесло вдребезги, в клочья, в куски не больше кулака… И Мигель вспомнил, как скверно пахло от этих Монго. Вдруг он понял, что от них всегда пахло покойником. Да, да, покойником, вот именно. Он отчетливо вспомнил, как они все трое бродили по пляжу, с мешком за плечами, ища невесть чего. Они и впрямь всегда ходили втроем, неразлучные. А теперь их так и похоронят: неизвестно, чья ступня — папаши Монго, Рипо иль Адольфито… А мать Мигеля опять стала плакать и спросила, всхлипывая: «А про моего рыжего ты вправду ничего не знаешь? Скрываешь, может?» (Его мать всегда называла мужа «мой рыжий».) И Андалусец божился, что не обманывает ее ничуть, а просто не знает ничего про Фернандеса. Хулия тоже ничего не знала про братьев и отца, но не спрашивала. Она теперь совсем загордилась, красила губы и с ними, деревенщиной из Алькаиса, вовсе знаться не хотела. У нее завелся жених, бывший штурмгвардеец, длинный как жердь, белобрысый, с коротко подстриженными бачками. Понемногу жизнь вошла в прежнюю колею, бесшабашное веселье попритихло, и в квартире перестали мешать день с ночью. Вернулись прежние времена, времена голода, горечи и тревог. Хотя еда еще была, и одевались чище, и заботы были совсем, совсем иные. И не было ни пляжа, ни лодок, ни отца.
Однажды ночью город обстреляли с корабля. Они с Чито спали, притулившись к деду, как два «морских блюдца»[24], прилепившиеся к скале. Стояла зима, и было очень холодно, сырость пробирала до костей. Дед Монго спал с открытым ртом, топорщилась седая жесткая борода. Под боком у деда свернулись калачиком два неподвижных тельца. Вдруг в отдалении послышались разрывы снарядов. Чито вскочил и растолкал его: «Мигель, Мигель, вставай». Вздрогнув, Мигель вскочил и спросонья, недоумевая, в чем дело, уставился на Чито. «Мигель, — тараща глаза, шептал Чито, — они уже здесь». Мигель по-прежнему глядел отсутствующим взором (такой взор всегда появлялся у него в решительные минуты). «Кто?» — спросил он. Но спрашивать было незачем. Он и так знал кто. Он знал, что в один прекрасный день за ним явится некто или нечто. Специально за ним. Знал, чуял это нутром, без слов, без имен. («Ты родился под счастливой звездой».) Это предчувствие поселилось у него в душе с того самого дня в Алькаисе, когда утопили в море людей, связанных цепью. А может, еще раньше, когда он был совсем маленьким, и мать плакала, сжимая кулаки, кусая губы, и глядела куда-то в даль — мрачную, жуткую, неведомую. Знал, что в жизни его приключится нечто особенное. И отомстит за него. И это нечто (или некто) всегда было рядом, стояло у него за спиной («ты родился под счастливой звездой»). Оно стояло за спиной, когда он глядел с ограды на расстрел и когда Монго убили священника; когда он и Чито проснулись средь развалин сожженной часовни и когда он просил у матери хлеба, а она глядела пустыми глазами и шептала: «Подожди, сыночек, пока вернется отец». И когда глядел, как ветер подталкивает к веранде казино Монгиху с мертвым младенцем на руках. Или как папаша Монго с сыновьями бродят по пляжу в сумерках — с мешком за плечами, почерневшие, плюгавые, а в глотках у них, казалось, застыло злобное улюлюканье, и даже зубы сгнили от невысказанных, проглоченных обид. Это нечто (или некто) стояло рядом с ним, когда он глядел, как волокут дона Панчито по улицам Алькаиса и когда луч фонаря ударил в лицо мертвецу в кювете. Он не мог бы вразумительно объяснить это даже самому себе, но он это знал. Он знал — нечто или некто, словно голубь, сидит у него на плече («ты родился под счастливой звездой») и однажды схватит его, утащит с собой — неведомо куда. «Они уже здесь». Сон совсем прошел, и Мигеля стал бить невыносимый озноб — такого леденящего ужаса он еще в жизни своей не испытывал. В душе пробудилось странное предчувствие, отчетливое, преждевременное, и все вокруг разом стало чудовищным, жутким. Он поглядел в глаза Чито, потом на разинутый рот деда Монго. Рот Чито, когда он произнес: «Они уже здесь», зиял зловещей дырой. Чито представился ему чумазым, уродливым оборванцем — жестоким, злым, отталкивающим. А дед Монго — просто грудой старого грязного мяса. И даже мать, когда вбежала, крича и протягивая к нему руки, показалась огромным, распаленным зверем. И безудержная тошнота подступила к горлу: она копилась внутри с незапамятных времен (когда совсем маленьким он залезал в гниющие, брошенные на песке лодки, играл ржавыми железками и напарывался босыми ногами на острые жестянки; когда клянчил еду и слышал безобразные крики пьяного отца, и когда лавочник не верил больше в долг, и когда лавку ограбили дочиста). Эта тошнота, казалось, всегда лежала в желудке тяжелым камнем, словно там с воем и урчаньем носился бездомный пес; что-то надрывно кричало у него внутри и летело стремглав — неведомо куда. И тогда ему впервые померещилось, будто все предметы вокруг надвигаются на него, надвигаются — и все, решительно все в мире стало безразлично. И, наконец, его окутал туман.
Мигель Фернандес крепко сжал в руках топор. И стиснул зубы почти до боли. Топор то взлетал кверху, то обрушивался со змеиным свистом на ствол дерева.
Туман подкрадывался незаметно, заползал в глаза и постепенно добирался до сердца. Туман был серый, льдистый, прозрачный. В пелене его расплывались очертания людей и предметов, и человек оказывался в далекой-далекой стране, где все безразлично, где нет ни любви, ни ненависти, ни страха, ни надежды. Туман обволакивал предметы, обволакивал его самого и уносил прочь. И ничто вокруг уже не трогало и не волновало — ни до чего не было дела. Так могло продолжаться невесть сколько — бог его знает, как и почему. Он не знал, рад ли он туману или боится его. По крайней мере, ни с кем ни разу не делился своими чувствами. Да и сам почти не думал об этом. Приходя в себя после припадка, он словно просыпался от тяжкого сна; и болела голова.
Наступил май; Мигелю исполнилось десять лет. Подрос он мало, но окреп и, как говорили все, особенно женщины, чудо каким сделался красавчиком. Ясно, что в то время он еще не заботился о своей наружности. Прошел год со смерти отца, и жизнь их совсем переменилась. Изобилия больше не было и в помине, вернулись вечные лишения и нехватки, хоть теперь и не такие острые. Глаза у матери потухли и даже походка переменилась. Словно туча прошла по ее лицу, и порой на нем мелькало странное выражение — Мигелю оно напоминало Монгиху. Однажды поутру их разбудила перестрелка. Улицы покрылись баррикадами. Говорили, что на площади Каталонии анархисты дерутся с коммунистами[25]. НКТ захватила телефонную станцию. Целых три дня, пока стреляли и на улицах было неспокойно, они не выходили из дому. Верх взяли коммунисты, по крайней мере, так он понял — теперь они власть. Примерно через неделю явились какие-то люди и стали выгонять всех из квартиры, где должно было разместиться учреждение. Андалусец с женой и Чито уехали в деревушку на побережье, где была у них родня. А мать Мигеля вспомнила тогда про Аурелию, молочную сестру мужа.
Аурелия была высокая темноглазая женщина, с загаром оливкового цвета и тонким, почти безгубым ртом. Аурелия несколько раз навещала их, когда они только приехали в Барселону, и подружилась с матерью, которую до тех пор не знала — она лет тридцать как уехала из деревни на заработки. Из этих тридцати лет вот уже больше пятнадцати вела она хозяйство у отставного капитана торгового флота, старого холостяка, одинокого как перст и больного. Про Аурелию поговаривали у них в деревне, будто она приворожила старика, когда он еще годился на любовные шашни, и теперь стала в доме полновластной хозяйкой и всем заправляла. Капитан, дескать (и так оно и было), теперь совсем без нее жить не может. Привык, значит, к заботам да уходу, а она этим и пользуется. Аурелия имела виды на деньжата, которые, полагала она, водятся у капитана, и надеялась в скором времени их унаследовать, зная достоверно, что родственников у капитана не сыщется в целом свете ни души. Мигелю не нравилась эта Аурелия: она щекотала его под подбородком твердыми, как железо, пальцами и говорила сварливым, резким голосом. Она вечно шушукалась с матерью, и тогда мать ходила насупясь и срывала на нем зло. Иногда обе они куда-то исчезали, и мать возвращалась поздно, с ярко накрашенными губами и чудная какая-то. Так было, пока отец воевал на фронте. Потом, когда их вышвырнули из особняка, мать схватила Мигеля за руку и отправилась в дом к Аурелии и старому моряку.
Капитан жил возле самого порта, на Морской улице. Дом был большой, темный; запомнилась Мигелю лестница с железными коваными перилами, выложенная желтыми и зелеными изразцами; запомнились и снопы золотистого света, который падал, как в церкви, сквозь цветные стекла высоких узких окон. Квартира была на последнем этаже, и поднимались они наверх медленно, словно задумавшись.
Аурелия страшно обрадовалась им и провела в маленькую гостиную. Она все время шикала на Мигеля, потому что старик, как она сказала, задремал после обеда. Квартира капитана была узкая, вся вытянутая в длину, с темным коридором и двумя балконами, выходившими на улицу; с балконов открывался вид на гавань, где стояли на причале громадные, замшелые от времени корабли, а в небо вздымался целый лес мачт, труб, снастей и флагов. Стены квартиры были оклеены серыми и красными обоями в цветах, а в столовой висела люстра, широко раскинувшая во все стороны свечи, только не настоящие — вместо фитилей у них были маленькие остроконечные лампочки. На столах, этажерках и полочках были расставлены кораблики под стеклянными колпаками, а по стенам развешаны морские виды и большие фотографии пароходов с подписями внизу: «Аркадий», «Вулкан», «Сикст III». Были там и портреты усачей в мундирах — в овальных рамках черного дерева, — и географические карты, и лоции, прибитые к стене. В особенный восторг привели Мигеля подзорная труба и компас в углу на столике, а еще старый граммофон с раструбом. Аурелия провела их к себе в спальню, на черную половину, и дала Мигелю поиграть почтовыми марками в коробке из-под конфет; кроме марок, он нашел там наперсток и золотые пуговицы с выдавленным якорем. Аурелия с матерью уселись друг против дружки и долго совещались, то и дело с видом заговорщиц поглядывая на дверь. Вдруг мать расплакалась, зажимая себе рот платком; он поднял голову и поглядел на нее. С опухшими от слез глазами, с красным носом она показалась ему на редкость безобразной. Аурелия усмехалась уголками рта, который был у нее в ниточку, и приговаривала: «Ладно, не горюй. Не будь дурой. Положись на меня и не будь дурой. Переселяйтесь сюда, старика я обломаю. Мальчишку отправим в безопасное место. А сама — нюни не распускай, крепись. Во всем положись на меня — я тебя не подведу. Со мной у тебя дела всегда шли отлично». Мать кивала, поддакивая, но рыдала еще пуще и с мольбой глядела на Аурелию опухшими глазами. «Уж я-то в жизни разбираюсь, поверь», — добавила Аурелия, глубоко вздохнув. «Да, но как быть с Мигелито…» — сказала мать. Аурелия прервала ее: «Не беспокойся, устроим его расчудесно. У меня есть одни знакомые, так он у них будет как у Христа за пазухой. Для его же блага — неужто в толк не возьмешь?» И хотя Мигель половины разговора так и не понял, по телу у него прошла дрожь.
Спустя два дня они с матерью оставили дом на улице Хероны и перебрались к капитану. Аурелия, как и в прошлый раз, встретила их, прижав палец к губам, и они пошли на цыпочках — совсем неслышно. Аурелия отвела им крохотную каморку, оконце которой выходило не на улицу, а в другую комнату. Из мебели там была только железная кровать. С трудом разместили вещи — навалом. Для платьев Аурелия дала матери несколько вешалок. В углу стоял фаянсовый умывальник с кувшином и висело полотенце с длинной бахромой. Над умывальником висело еще и зеркальце, но лицо в нем становилось кривое, будто перекошенное от зубной боли. Обедали все трое на кухне, за некрашеным сосновым столом, который добела терли мочалкой со щелоком. Пол везде, кроме парадных покоев, был выложен красной плиткой. По ночам, когда все в доме засыпали, Мигель прислушивался к тиканью больших стенных часов в гостиной, которые перед боем всякий раз заводили песенку, — она ему очень нравилась. Тогда он крепче прижимался к матери, — она спала рядом, подложив руку под голову, — и пристально вглядывался в ее черты. Лицо у матери было изможденное, а черные вьющиеся волосы кольцами рассыпались по подушке. От материнского тела шел теплый, густой запах — такой родной. И мальчик думал: «Меня отошлют далеко…» При этой мысли он не чувствовал ни боли, ни горечи. Только сердце сжималось от какого-то тайного холода. Этот холод заполнял всю душу, леденил кровь. «Они думают, я не знаю, а я давным-давно догадался. Ушлют меня подальше. Ну и пусть. Все равно мне. Еще пожалеют, я знаю». А сам невольно все крепче, все тесней прижимался к матери.
Видел он несколько раз и старого капитана, когда Аурелия подавала тому кушанье. Старик сидел в кресле на колесиках подле балконной двери, а ноги его были до колен укутаны одеялом. В руке он держал подзорную трубу и глядел на море, на суда. Аурелия представила Мигеля капитану: «Вот это, дон Криспин, сынок Марии Рейес». Старик приласкал его. Взял рукой за подбородок и спросил, сколько ему лет. «Что за красавец мальчик», — сказал он. Вот тогда-то Мигель впервые в жизни и подумал: «Я приглянулся ему. Всем я нравлюсь, потому что славный». Это и вправду было так. Впрочем, высоким мнением о себе он отчасти был обязан маленькой хитрости, которую тщательно скрывал ото всех. Однажды он поглядел на себя в зеркало и улыбнулся. С тех пор, когда с ним заговаривали, он поднимал глаза кверху и улыбался. И взрослые неизменно говорили: «Какой ладный паренек!» Уловка эта била без промаха. Он всех очаровывал. Особенно ласков был с ним старый капитан. «Аурелия, принеси мальчику ящик с пластинками». Аурелии такое приказание было не по вкусу, хоть она и растягивала губы в деланной улыбке. «Глянь-ка, да вы, никак, втюрились в этого сопляка? Не иначе!» — говорила она. Но пластинки приносила. А как-то раз Аурелия зашла к ним и сказала: «Старик наш в детство впал, только вместо игрушек внуков ему, видно, надо. Нет, вы подумайте, какая блажь: пусть Мигель кушает вместе с ним в столовой! Ну, скажу я вам, этот чертов малец далеко пойдет! Старик-то мой совсем из-за него рассиропился!» У матери эти слова, казалось, вызывали гордость: она оглядывала сына, гладила по голове, но потом пригорюнивалась, уткнув лицо в ладони, пока Аурелия не подходила к ней с ножом для чистки овощей или с посудным полотенцем. «А ну, выше нос! Что за слюнтяйка эта баба!» И мать поднимала голову и улыбалась. Но в глазах стояли невыплаканные слезы. Дон Криспин, капитан в отставке, развлекал Мигеля рассказами про морские походы. Половины он в этих рассказах не понимал, но слушать все-таки стоило, потому что Аурелия подавала ему есть то же, что старику, а в полдник еще добавляла стакан шоколада. Кроме того, он играл компасом, а старик показывал ему по карте, в каких морях плавал он на «Святой Матильде».
То были неплохие дни — и даже целые недели — в его жизни. Пока не начались бомбежки. И тогда хорошему житью пришел конец. Едва, бывало, завоет сирена, как женщины принимаются вопить, и надо спускаться в убежище… Капитана волокли под руки Аурелия и еще какой-то мужчина, живший этажом ниже, — он знал старика с давних пор и величал его «мой капитан». Спускались все в подвал и ждали, пока снова не завоет сирена. Однажды ночью бомбы упали совсем рядом. Дом задрожал, из окон посыпались стекла. Когда налет окончился, они увидели на улице лужи крови и людей, которые куда-то неслись и вопили благим матом. Мигель был бледен как смерть, похолодел весь, и Аурелия, разливая по чашкам липовый чай, сказала: «Мальчишку надо отправить отсюда». Мать прижала его к груди. Это объятие показалось ему прощальным. Было в нем что-то давнишнее, бесконечно родное. Что-то напоминавшее далекие годы раннего детства, когда мать носила его на руках и на руках с ним выходила встречать отца, который работал тогда кочегаром на пароходе. Или когда в Алькаисе мать водила его на кладбище и, показывая маленький холмик, говорила: «Здесь похоронены твои братики, Рикардо, Эстебан и Хосе, они померли еще до твоего рождения — повальная болезнь была, всех косила». И он представлял себе этих братьев — глаза закрыты, сами вытянулись неподвижно, руки скрестили на груди, как будто они так всегда лежали, и живыми тоже. И еще это объятие напомнило ему, как мать брала его к себе на колени, сидя на пляже, глядела далеко в море, подперев щеку кулаком, и глубоко задумывалась. Он тоже обнял мать. В голове мелькнуло: «Вот теперь меня отошлют далеко-далеко». Он уже привык к этой мысли. И вдруг, непонятно почему, вспомнил Чито. Чито, с которым он даже не простился, с которым разлучили его, непонятно зачем и как (он только теперь сообразил это). И к горлу подступили слезы. Но он не заплакал, сдержался.
