29
На работу я еще ездил, но в вагончике больше не жил. Ночевал у дедушки.
Я не боялся Юры. Думаю, наоборот: он меня боялся. Но я не могу жить в одном вагончике с человеком, с которым не разговариваю.
Это вообще тягостно – жить с человеком, с которым не разговариваешь. Есть семьи, где люди по году не разговаривают. Живут вместе, едят за одним столом, вместе смотрят телевизор, а вот – представьте себе – не разговаривают. Объясняются через третьих лиц или посредством записок.
У нас дома этого никогда не было. Поспорили, поконфликтовали, даже поссорились, но не разговаривать? Глупо. Тогда надо разъезжаться.
Я так и сделал. Кое-какое мое барахлишко еще было в вагончике, а я опять каждый день ездил в город и из города – жил у дедушки. Тем более, что после устроенной Вороновым публичной выволочки, после того как я обнаружил общую к себе враждебность, мне стало что-то неуютно на участке.
Придется, видно, сматывать удочки.
О том, что Юра схлопотал от меня, никто не знал. Я никому не рассказывал, Юра – тем более. Андрей тоже помалкивал: о таких вещах здесь трепа не бывает, ребята выдержанные. Даже Маврин ничего не знал.
Одна только Люда о чем-то догадывалась, вопросительно смотрела на меня, ждала, что я ей расскажу. Но я делал вид, что не замечаю ее взглядов. Если так интересуется, пусть узнает у своего Юрочки.
В конце концов она не выдержала и спросила сама.
Она приехала к нам в мастерскую оформлять наряды. Все ремонтники были на трассе, даже сварщик со своим аппаратом уехал. Только я один колбасился вокруг переднего моста к самосвалу.
Люда уселась на табурет, прикрыв его, по моему совету, газетой, некоторое время смотрела, как я работаю, потом спросила:
– Сережа, из-за чего вы подрались с Юрой?
Берет на пушку, на понт берет. Делает вид, что знает, а на самом деле ничего не знает, только догадывается. И если я поймаюсь, то окажусь источником информации, то есть сплетником.
– Когда это было? – спросил я.
– Сережа, не притворяйся, я знаю.
– А знаешь, зачем спрашиваешь?
– Хочу услышать об этом от тебя.
– А от кого еще слыхала?
– Слыхала, – объявила она таким тоном, будто действительно слыхала, но не может сказать, от кого.
Люда, в общем, ничего девка. Артельная, «нашего табора», как здесь говорят, добрая, широкая: когда у нее что есть, ничего не жалеет, всем поделится. Только редко у нее что бывает... Но она поверхностна, легкомысленна и лжива. Лжива не для какой-то выгоды, а просто так, по натуре, безо всякой цели, не себе на пользу, а себе во вред. Такая эксцентричная, экзальтированная особа, фантазерка.
И сейчас она, по своему обыкновению, нахально врала, будто кто-то что ей говорил. Никто ей ничего не говорил.
– Ничего ты не слыхала и не могла слыхать. Никакой драки не было и быть не могло.
– А почему вы не разговариваете?
– Опять: из чего ты заключила?
– Вижу. И ты перестал с нами обедать.
– Живу в городе и обедаю в городе.
Когда-то я был лопухом. Меня разыгрывали, и я попадал в глупое положение. Но сейчас нет, извините, я научился взвешивать свои слова. Ничего она у меня не выпытает, пусть не старается.

Она сидела в нашем тесном сарайчике, среди разобранных машин и агрегатов, среди железок и тряпок, на грязном табурете, который, если бы не я, даже не покрыла бы газетой, и ее мини-юбка, и мини-плащ, и модные туфли казались здесь жалкими. Я заметил на ее шикарном плаще пятна, каблуки были стоптаны, петли у чулок спущены. Все это, повторяю, выглядело жалким. И сама она выглядела жалкой, несчастная девчонка без семьи, без дома, перекати-поле.
– Чего домой не едешь? – спросил я, продолжая возиться с мостом.
Она не ожидала такого вопроса – он застал ее врасплох. И молчала.
– У тебя кто родители?
Она хмуро и нехотя ответила:
– Мой отец полковник милиции.
Штука! А я-то думал, что у нее отец слесарь, а мать медсестра. А ее отец – полковник. Да еще милиции. Наверно, от него и забилась к нам на участок, чтобы он не мог разыскать ее. Впрочем, возможно, и не прячется.
– Братья-сестры есть?
– Нет.
Единственная дочь. И сбежала.
– В чем вы не поладили?
Все так же нехотя она ответила:
– Про это долго рассказывать.
– И не хочется домой?
– Хочется... Иногда.
– Почему не едешь?
Она молчала.
– Юрку боишься?
Она презрительно передернула плечиками:
– Юрка! Захочу, поедет за мной на край света.
– Отца боишься? Он у тебя злой?
– Нет, ничего.
– Стыдно возвращаться?
– Угу. – Она посмотрела наконец мне в глаза затравленным и несчастным взглядом.
– Ну и глупо!
Люда ушла.
Советуя ей уехать домой, я действовал против интересов Юры. И если Юра узнает, то решит, что я делал это нарочно, ему в отместку. Андрей и Маврин расценят как нетоварищеский поступок. Но мне наплевать, что подумает Юра, что скажут ребята. Мне ужасно жаль Люду: такая она неприкаянная и при всей своей вызывающей внешности беззащитная.
Вернулся с трассы механик Сидоров, помог мне закончить мост. Он переходил от одного дела к другому без перекура – свидетельство наивысшей работоспособности. Другие подгадывали окончание дела к концу смены, в крайнем случае к обеденному перерыву, а потом уже брались за новое. «Но уж это завтра» или: «Это после обеда»... Если задание было очень срочным, сначала перекуривали – «перекурим это дело» – и тогда только приступали. Сидоров никогда ничего не откладывал ни на завтра, ни на после обеда, ни на после перекура. Начинал новую работу так, будто продолжал старую.
Собственно говоря, историю с неизвестным солдатом затеял именно Сидоров. Он остановил Андрея, не дал срезать холмик, потребовал у Воронова разыскать хозяина могилы, но удовлетворился тем, что могилу перенесли. Для него этот солдат существовал как безымянный. Могила была символом, памятью, данью признательности, долгом, который живые отдают безвременно погибшим. И он считал это достаточным. Он не упрекал меня за то, что я ездил к Краюшкиным, не отговаривал, когда я намекнул, что придется слетать в Бокари, – он не отговаривал меня, но и не уговаривал. Могила перенесена, сохранена – остальному он не придавал значения. Он не придавал особенного значения и тому, что я вообще уйду с участка: уйду я – придет другой. Он мне помогал, показывал, учил – будет учить другого.
Может быть, в этом и была своя мудрость. Что изменилось в жизни Краюшкиных, оттого что нашлась могила их отца и деда? Что изменилось в них самих? Ровным счетом ничего. Прибавилось душевное неудобство за то, что они сами не разыскали могилы. А потом оно прошло – утешили себя тем, что такой розыск им не под силу, и он действительно им не под силу. И если мы напишем здесь: «Краюшкин П.И.», то сын, может быть, приедет один раз и больше ездить не будет. Могила останется сама по себе, будут за ней присматривать пионеры и школьники: для них фамилия «Краюшкин» ничего не говорит. Если бы было написано: «Неизвестный солдат», то это было бы романтичнее. Давало бы пищу воображению и фантазии, утешило бы других матерей – возможно, здесь их сын.
Для чего же и для кого я ищу? Для кого и для чего стараюсь? Зачем влез в дело, которое ничего, кроме неприятностей, мне не доставляет? Сколько раз я уже зарекался не ввязываться ни в какие истории, не «высовываться». Нет! Я опять «высовываюсь». Зачем? Что мною руководит, кроме простого детективного интереса? Ведь я уже не мальчик.
Конечно, не мальчик. И все доказательства, которые сейчас привожу, правильны и логичны. И все же я не брошу этого дела, доведу его до конца.
Почему?
Может быть, меня раздражает бурная деятельность молодого Агапова? Он на всех углах твердит, что неизвестный солдат – это старшина Бокарев, собирает материалы о его жизни и подвиге – словом, шумит, шумит, шумит... А ведь неизвестный солдат вовсе не Бокарев. Девяносто из ста за то, что это Краюшкин. Хочется осадить очкарика, поставить его на свое место!
Но не это главное. Слишком много сил и времени потрачено, слишком много усилий сделано, осталась самая малость, все уже почти ясно – жаль бросать. И стыдно перед дедушкой. Он говорил об этом только тогда, когда я сам заговаривал. Однако я чувствовал его интерес не только к солдату, но и к самому тому факту, что я этим занимаюсь. Он это одобрял и был бы разочарован, если бы я бросил. Хотя и с огорчением, он примирился с тем, что я уйду с участка. Но если я брошу дело неизвестного солдата, он мне не простит.
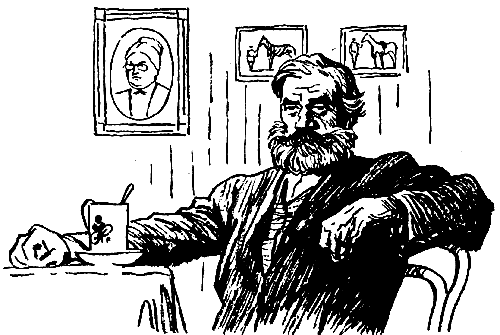
– С начальством поругался – дело обычное, с товарищем подрался – тоже исправимо, – сказал дедушка, – но если сердце не лежит – значит, не судьба.
– Я там больше работать не могу, – твердо объявил я.
– Не можешь – значит, не можешь. Найдешь другое место. А что касается солдата, то игрушечная картонка – серьезное доказательство в пользу Краюшкина. И кисет как будто говорит за него. А свидетели склоняются больше к старшине. Так что окончательных данных нет. Но есть еще одно... – Дедушка посмотрел на меня, потом значительно произнес: – У Бокарева мать живая.
Смысл этой фразы дошел до меня гораздо позже. А тогда я сказал:
– Краюшкин! Не вызывает сомнений. Но чтобы убедиться окончательно, надо ехать в Бокари.
– Конец не малый, – заметил дедушка.
– Поездом до Москвы, самолетом до Красноярска, а там, наверно, тоже самолетом до Бокарей.
– И обратно, – напомнил дедушка.
– Я там не собираюсь оставаться.
– И во что это должно обойтись?
Я назвал цифру. Что-то около двухсот рублей.
– Где ты собираешься их взять?
– Пятьдесят рублей получу в расчет, остальные достану в Москве.
– В банке?
– У меня есть одна вещица...
– Остальные деньги я тебе дам, – сказал дедушка.
